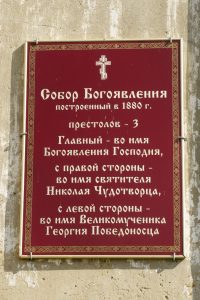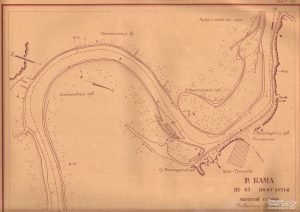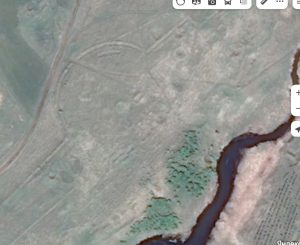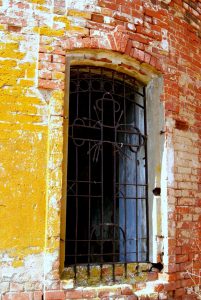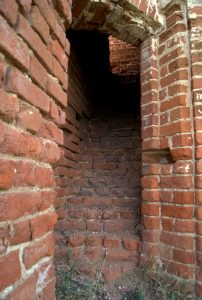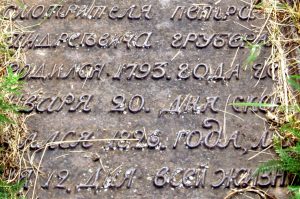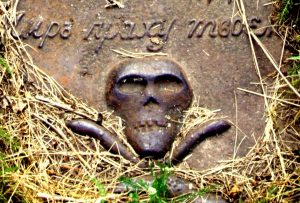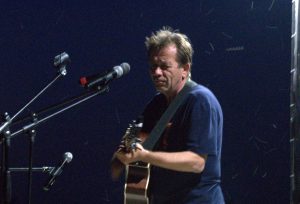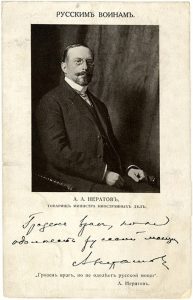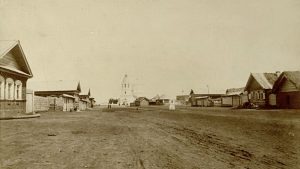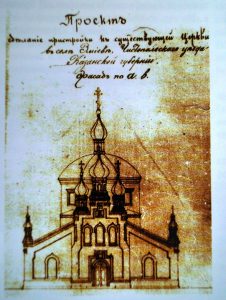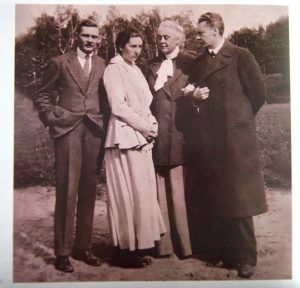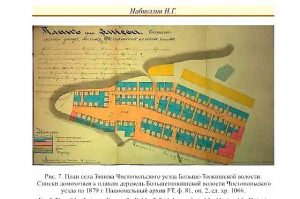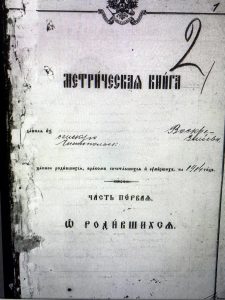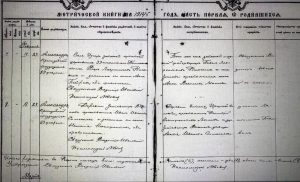А не заглянуть ли нам в прошлое Чистопольского уезда?
Какие Змеёвские городища? Джукетау — наша главная история, древнейшее поселение на нашей территории, которое мы любим, знаем, часто там бываем и очень им гордимся. Помню, даже традиция была у молодоженов — приезжать на огромную поляну за элеватором, чтобы распить бутылку шампанского.
И я был когда-то таким невеждой, пока не начал изучать историю края. А сегодня у меня был праздник — Георгий Иванович Лыков, наш замечательный краевед, знаток, наверное, всех признанных и непризнанных городищ, селищ, некрополей, посадов и раскопов в нашем обширном районе взял меня в поездку по «местам былой славы». Умирает потихоньку краеведение в Чистополе — лето, разгар полевых работ, но ни одной экспедиции, ни одного школьного кружка мы не встретили. Все ткут, вышивают, льют мыло ручной работы да плоские камушки расписывают. Как горели глаза у Георгия Ивановича, когда он рассказывал, как готовились, как выезжали в поле, как ставили палатки, или просились на постой в тогда еще шумящие и мычащие по вечерам деревни. Как били шурфы, делали раскопы, чем надо работать, чтобы не повредить культурный слой. Сколько булгарской керамики, золотоордынских монет, железных артефактов именьковской культуры было найдено вместе с ребятами. Сколько надгробий обнаружено, скопировано и сфотографировано.
История чистопольского края начала писаться задолго да появления беглых крестьян в чистом поле возле Прости, и, как выясняется, даже задолго до прихода на наши земли булгар с благодатных южных степей, охваченных ожесточенной войной между половцами и хазарами. Закамско-Чистопольский район с плодородными почвами, богатый лесами и реками, всегда был благоприятен для жизнедеятельности человека. Это стало одной из основных причин его относительно раннего и интенсивного освоения и, как следствие, насыщенности памятниками археологии. По камскому побережью, особенно в окрестностях современных населенных пунктов Кубассы, Березовка, Галактионово, Крутая гора, Донауровка, Змеево, Булдырь, Русские Сарсазы, Суворовка, наблюдается концентрация археологических объектов, которые представлены памятниками практически всех исторических эпох и периодов, в том числе железного и бронзового века, что свидетельствует о традиционной заселенности этой территории. В восьмом, девятом веках древнюю именьковскую культуру потеснили пришедшие с северо-кавказских пастбищ воинственные булгары, создав на огромной территории свое государство — Волжско-Камскую Булгарию. Так устроен человек, что селится он чаще всего на уже обжитом месте, потому-то под булгарским культурным слоем можно найти артефакты именьковской культуры, первой в нашем крае земледельческой культуры, а под ней еще более древние культурные пласты.
Но не будем растекаться мыслью по древу, вот вам статья, из которой по археологии чистопольского края вы узнаете практически все http://archaeologie.pro/ru/archive/27/538/.
Наш путь с Георгием Ивановичем сегодня лежал на восток к Змеёвским городищам. Удивительно похож Змеёвский мыс на мыс Крутой горы, на котором располагалось городище Джукетау. Так же стремится он в небо своим каменным основанием, так же неторопливо обтекает его сейчас заросшая камышом, но не растерявшая в заводях заросли кувшинок и лилий речка Ерыкла. Так же защищает его от набегов возможных неприятелей крутой склон берега Прости. О важности и значимости Змеёвского городища говорит форпост, стоявший на противоположном левом берегу речки Ерыкла, чуть выше по ее течению, на небольшом выступающим над речкой мысу, с которого далеко просматривались подступы к основному селению. О том что некогда здесь стояла укрепленная крепостица, в которой, скорей всего и постоянного населения-то не было, сейчас говорит только сохранившийся невысокий вал, да еще видимый кое-где ров, ранее наполненный водой. Городище — это огороженное, укрепленное место, предназначенное для постоянного проживания и временной защиты посадских жителей, укрывавшихся за частоколом из заостренных бревен. Ров, наполненный водой и земляной вал также служили препятствиями подступавшим врагам. Нам с Георгием Ивановичем удалось найти место, где и ров, и вал прослеживаются достаточно отчетливо, ну, а от частокола, конечно, следов уже давно не осталось. Ныне на городище расположены садовые участки, которые тоже внесли свою лепту в исчезновении архитектурного памятника. О толщине и богатстве культурного слоя косвенно свидетельствует тот факт, что с разработкой садовых участков в чистопольский музей понесли остатки булгарской керамики и золотоордынские монеты, и количество найденных артефактов исчислялось, вы не поверите — ведрами. Было поднято несколько монет и остатков керамики еще до золотоордынского периода, что говорит о активной торговле на территории Змеёвского городища с далекими богатыми южными царствами. Вокруг городища располагалось несколько селищ, где селились ремесленники, землепашцы, скотоводы, рыбаки. Западнее городища находилось кладбище, в середине 19-го века исследователи описывали надгробные надписи на камнях и датировали их 13-ым веком. Змеёвское городище не устояло перед нашествием в 1236 году войск Батыя, оно было разграблено, но, через непродолжительное время жизнь снова вернулась на прежние места. В 1360 году новгородские ушкуйники, воспользовавшись «Великой замятней» в Орде вошли на своих судах в Каму, пограбили большой и известный им Жукотин, но, заметив неподалеку Змеёво городище, не побрезговали и им. В 1391 году армия «Железного хромца» — великого Тамерлана, преследуя разбитого на Кондурче Тохтамыша вполне могла правым флангом зацепить и «Змиёво городище». Но окончательную точку в разрушении городища с посадами поставило в 1431 году войско Федора Пестрого, удельного стародубского князя, перешедшего на службу к московским князьям. Разрушив восстанавливающийся после всех нашествий Булгар, его ладьи вошли в Каму и завершили разграбление камских городов. С тех пор почти два века на опустошенной территории Закамья кочевали лишь ногайские да калмыцкие табуны. Только с начала 17-го века, по окончанию смутного времени, московские цари стали жаловать пустынные, но опасные земли дворянам и воеводам, отличившимся в сохранении Руси великой. Одновременно с этим крупные землевладельцы Казанской губернии, такие как Савва Аристов и Степан Змеёв начали переводить своих крестьян на правый берег Камы, сначала для покосов пойменных трав, а потом и закреплять их во вновь построенных поселениях. Вскоре возникшие поместья были узаконены, закреплены за землевладельцами. «В поместном столу 190 (1682) г. написано: дано Ивану Змеёву в Казанском уезде по Нагайской дороге за Камою рекою в степи пустое дикое поле слывет «Змеёво городище» и поселил Казанец Иван Герасимович Змиёв на ней село Воскресенское, Змеёво Городище тоже». Завершение строительства в 1657 году Закамской оборонительной черты сделало хозяйствование в опасных районах более надежным. И вот с тех пор население Закамского края стало быстро прирастать сначала беглыми крестьянами, которые вскоре стали крепостными, прикрепленными к земле, а потом и переселенцами, которых перевозили целыми хуторами дворяне, получившие здесь жалованную землю и ставшие крупными землевладельцами. Среди последних можно отметить знакомую фамилию Уразгильдеевых, получивших в середине семнадцатого века огромные земельные наделы в Чистопольском уезде. Возвращаясь к Змеёво, или как его еще называли селу Вознесенскому, ибо уже в 1694 году в селе появилась деревянная церковь-звонница, и освящена она была в честь Воскресения Христова. О истории этой деревянной и последующей каменной церкви расскажу и покажу как-нибудь в другой раз — слишком грустно и бесхозно выглядят она на фотографиях. Владельцы или арендаторы села Воскресенское менялись не раз, среди них была и крупная помещица и меценатка Александра Николаевна Стрекалова, невестка Казанского губернатора Степана Степановича Стрекалова, выстроившая в Новоселках (Новом Змеёво) единственную в Казанской губернии каменную мельницу голландского типа, и разбогатевшие бывшие крепостные хозяина села Воскресенское Ивана Змеёва братья Плясовы, ставшие чистопольскими купцами, торговавшими галантерейным и бакалейным товаром и имевшими в Чистополе магазин, сохранившийся до сих пор. Усадьба Плясовых в Змеёве, флигель и красивые кирпичные ворота сейчас в частных руках и поддерживаются в хорошем состоянии. Можно упомянуть еще княжну Елену Александровну Ливен (она не была замужем, а потому — княжна), камер-фрейлину, начальницу Смольного института благородных девиц. Она имела в окрестностях Змеёва великолепный, один из лучших в казанской губернии конезавод и арендовала для завода пойменные покосы. Конечно, сама княжна жила в Санкт-Петербурге, ее заводом управлял Александр Константинович Розентрейтер, человек безупречной деловой репутации, тот самый, который продал свою усадьбу на Архангельской Петру Матвеевичу Шашину для обустройства в ней ремесленной школы. Сегодня на месте городища и посадов сады, сады, сады. От старого кладбища не осталось и следа, уникальные надгробия пошли на строительный материал. Несколько метров вала и неширокий ров говорит нам о некогда существовавшем на этом месте укрепленном поселении.
В нескольких километрах от первого городища еще можно увидеть защитные валы и ров второго Змеёвского городища. Сама природа пощадила его от полного уничтожения, расположив между двумя оврагами, сделав тем самым неудобным для земледелия, но удобным для организации обороны. Его расположение не совсем типично для поселения — поблизости нет реки, разве что предположить, что по дну оврагов протекали достаточно полноводные ручьи, чтобы напоить скот и проживавших в городище людей, а может здесь были рукотворные плотины для задержания талых вод. Но проводившиеся в 19-ом и 20-ом веках раскопки принесли материал, уверенно свидетельствующий о проживании в этом месте людей начиная с 13-го века:
Рассказывать о Змеёвском городище и не рассказать о Змеёвской церкви просто невозможно. Мало того, что храм посадили практически на защитный бруствер городища, мало того, что в 1774 году храм пограбили бунтовщики Емельки Пугачева, православными христианами себя называющими, несмотря на отслуженный молебен в честь «самозванца». Мало того, что у храма отдельно стоящая колокольня, а в колокольне той имеется секретная комната, спрятанная в четверике, в которой при необходимости может схорониться немало народа, так ведь и навершие колокольни зодчие сделали шатровым, столь нелюбимым патриархом Никоном, который еще в 17-м веке издал специальный указ: «По чину правильного и уставного законоположения, как о сем правило и устав церковный повелевает, строить о единой, о трёх, о пяти главах, а шатровые церкви отнюдь не строить…». Но русская голь на выдумки хитра — про колокольни-то в той грамоте ничего сказано не было, вот и расплодились с той поры по Руси колокольни со столь красивым полюбившимся прихожанам шатровым навершием с небольшой маковкой наверху, венчаемой православным крестом. Вот и на Змеёвской колокольне вместо византийского купола — русский шатер, опирающийся на два восьмерика, в верхнем сделаны «слухи», да не простые — два из них в форме колокола, найдите второй такой в России, а нижний — «глухой», опирается на традиционный четверик. Конструкция надежная, выверенная веками, и красивая до невозможности! Правда, видим мы позднюю реконструкцию храма, подвергся он переделке и укреплению в 1881-1883 годах на деньги чистопольских купцов братьев Ивана и Василия Плясовых. Казанский архитектор Лев Казимирович Хрщонович обновил вход в церковь, сделал его более торжественным, парадным. Кстати, церковь Елены Царицы при Чистопольском духовном училище — тоже его работа. Внимательный зритель найдет в обеих зданиях схожий элемент, какой — не скажу, полюбопытствуйте сами. Внутренние росписи храма тоже принадлежат к тому времени. Вот написал «принадлежат», а принадлежать-то там почти и нечему — увы. Настенные росписи 19-го века в плачевном состоянии, еще немного, еще несколько лет — и они исчезнут навсегда. Будь моя воля — повелел бы строить новые храмы только после восстановления последней часовенки, порушенной большевиками, чтобы восстановились традиции древнего русского зодчества, чтобы восстали во всем своем строгом великолепии православные храмы на территории всей России, радуя глаз и воспитывая вкус нового поколения, уже начинающего привыкать к яркому и пестрому матрёшкинскому стилю современного новодела.
Еще школьником я приезжал на велосипеде полюбопытствовать на разрушенный в 1929 году храм, поднимался по крутейшей лестнице на открытую всем ветрам колокольню, дивился на тогда еще яркие краски ликов святых, смотрящих прямо в глаза любопытному посетителю, дотрагивался до огромного кованого креста, сброшенного с колокольни и прислоненного к кирпичной стене, удивлялся смелости и мастерству архитектора и строителей храма, ухитрившихся установить на четыре столба-колонны все купольные перекрытия и внутренние своды церкви.
Остается добавить, что Воскресенская церковь, как ее в народе называют, возможно, старейшая в бывшем Чистопольском уезде — она построена в 1742 году вместо сгоревшей деревянной, построенной в 1694-м:
А не заглянуть ли нам в прошлое Чистопольского уезда? Продолжение
В этот раз Георгий Иванович Лыков повез меня на Булдырское городище. Вернее, повез-то его я, а Георгий Иванович был за штурмана. Городище Булгарского периода хорошо видно с дороги Чистополь — Четырчи, с той самой, которую колеса моего велосипеда изъездили многократно. Невозможно не восхищаться выбором места для укрепленного поселения, которое позже становилось городищем. Оно занимает западную часть возвышенности коренного берега, вблизи села Булдырь. Северная сторона городища защищена склоном, практически отвесно обрывающимся в пойму Камы. С юго-востока на северо -запад тянется сухой лог. В те времена, когда здесь жили люди этот лог был небольшой речкой и тоже не с пологими берегами. Речка естественно выходила в пойму Камы, перекрывая доступ возможному противнику с юга и запада. В восточной части еще видны защитные сооружения — ров и насыпанный вал. Территория городища небольшая, что предполагает использование его в качестве сигнального пункта. С территории городища прекрасно просматривается городище Джукетау, расположенное на Крутой горе. За Джукетау идет , Кубасское, потом Байтеряковское, потом Остолоповское селище, Алексеевское. По другую сторону находится городище возле Русских Сарсаз. Все они расположены на великом Камском пути , по которому из Сибири по Каме и дальше по Волге в южные ханства, каганаты и улусы шли драгоценные меха соболей, горностаев и куниц, а навстречу двигались товары из Персии, Китая — восточные пряности, шелка, благовония. Но вместе с торговцами по великому речному пути проносились и быстрые лодьи морских разбойников, чья доблесть измерялась количеством награбленной добычи. И вот тогда в ночи вспыхивали на этом пути сигнальные костры, предупреждая соседей быть настороже и выставить охрану возле перевозов. Надо заметить, что Булдырское городище сильно пострадало во время отсыпки дамбы через обширную пойму речки Грязнуха. Грунт для отсыпки, конечно, вместе с культурным слоем, брали непосредственно с городища, оно же находилось прямо на краю возвышенности, так строителям было удобнее. Теперь раскопки можно проводить прямо в теле насыпанной дамбы. Дорога для вывоза бута с соседнего карьера, тоже прошла через городище. Именно на ней, в осыпях, и находили участники экспедиций остатки керамики булгарского периода:
А не заглянуть ли нам в прошлое Чистопольского уезда опять? Булдырь
В прошлом посте рассказывал о Булдырском городище, расположенном возле села Булдырь, а сегодня заглянем в само село. Интернет упорно отсылает меня к 1704 году, как к дате основания села. Но все же думается, что люди селились на этом месте раньше. так же как еще в середине 17-го века на левобережье Камы переселялись крестьяне землевладельца Степана Змеева, основав село Змеево, а крестьяне Саввы Аристова основали Савин городок на месте разгромленного Жукотина, так и на месте поселения Булдырь еще в 17-том веке стали селиться ясачные крестьяне, то есть крестьяне платившие установленный налог. В 1721 году Петр Первый своим указом сделал их всех приписными, приписав к Авзяно-Петровскому заводу. История говорит, что земли по левобережью Камы до самой Шешмы некогда принадлежали богатому роду татарских мурз и были жалованы за заслуги в сохранении государства российского в Смутное время первым Романовым — Михаилом Федоровичем. Это косвенно подтверждает и наука о появлении названий поселений — топонимика. Посмотрите — Каратаевка, казалось бы русское название, но нет, имеются явные тюркские корни — «кара» — черный, «тай» — жеребенок. Сарсазы — «сар» — желтый, «саз» — болото, топь. На месте современных Четырчей находилось поселение Четырак, что означало забор, частокол. Так и у названия села Булдырь имеется два толкования: «булдырь» — шишка, пузырь на ровном месте, но вероятнее всего, название поселения произошло от татарского «булды». Как бы то не было, но предки наши селились на удивительно красивых местах. Дома стояли по краю коренного берега Камы, с которого открывался потрясающий вид на пойменные луга, реку Прость, заливы, протоки и синеющий вдалеке лес на противоположном берегу реки. Село росло, постепенно дворы переходили и на нижнюю, пойменную часть. Жители села занимались земледелием, разведением скота, пчеловодством, рыболовством, валяльным и плотничным промыслами. К 1868 году был выстроен и освящен двухпрестольный храм с приделом Рождества Пресвятой Богородицы. К началу двадцатого века в селе насчитывало около 400 дворов, только душ мужского пола в нем проживало более 2500 человек, имелась церковно-приходская школа, работали 2 кузницы, 8 ветряных мельниц, казённая винная и 5 мелочных лавок. Несколько кирпичных домов стояло на главной улице, развалины одного из них видны до сих пор. Почти возле каждого дома стоял каменный сарай, благо карьер с бутовым камнем находился рядом с селом. Старожил села объяснил мне. что в таких сараях-амбарах держали продукты. Село неоднократно горело, так продукты сохраняли от пожаров. До сих несколько еще сохранившихся каменных амбаров рассказывают о былом достатке жителей села. Про сегодняшнее состояние села писать не буду, грустно все. Конечно, новоявленные жители освоили брошенные дома, что-то отремонтировали, чаще — сносили деревянную красоту и строились заново. Разномастные постройки сейчас «украшают» некогда красивейшее село Чистопольского уезда. Говорят — веление времени, а по мне, так отсутствие культуры строительства и пренебрежение к наследию своего прошлого.
Нашел подтверждение того, что село, действительно древнее 1704 года, что селиться на этом месте крестьяне начали с 1640-ых годов, а к 1700 году уже была выстроена деревянная часовня и небольшая церковь. Село быстро прирастало людьми, вскоре церковь перестала вмещать всех прихожан, и в 1787 году построили новую, тоже деревянную, освященную в честь Рождества Христова, после чего село стали называть Рождественское. Церковь эту постигла участь почти всех деревянных церквей, в 1864 году она была уничтожена сильнейшим пожаром, от села осталось лишь несколько домов. Но село не исчезло, и в 1868 году в возрождающемся селе уже стоял новый, Христорождественский храм с приделом в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В 1929 г., в годы борьбы с пережитками прошлого, храм был закрыт, а в здании организована школа, просуществовавшая до 80-х годов. Заброшенное здание пришло в запустение и было разобрано. Сейчас храм восстановлен, в нем проходят службы:
Еще немного булдырских фотографий. Оцените сложность и красоту наличника. А какие там собаки! Из достопримечательностей села — святой ключ и восстановленная церковь. А красоту Прости возле Булдыря никакая фотография передать не сможет!
А не заглянуть ли нам в прошлое Чистопольского уезда (очередное продолжение)
«Хмурая, дождливая осень наступила», — эти нехитрые слова детской песенки я помню еще с детского сада. Что ж, порадуемся и ранней осени, благо, что в летние погожие дни мы с Георгием Ивановичем Лыковым успели поездить по близлежащим городищам и селищам. Конечно же, были мы и на Русско-Сарсазском городище. Русско-Сарсазское городище — особое, оно принадлежит именьковской культуре. Википедия нам расскажет, что Именьковская культура — раннесредневековая археологическая культура IV — VII веков, расположенная на территории Среднего Поволжья. Многие исследователи видят в именьковской культуре праславян. Свое название культура получила по первому наиболее полно изученному городищу у села Именьково Лаишевского района. После прихода в Среднее Поволжье булгар, во второй половине VII века, памятники именьковцев исчезают. Высказывается предположение, что часть именьковцев растворилась в пришельцах, часть ушла на запад, дойдя до междуречья Днепра и Дона и войдя в состав волынцевской культуры, откуда и берет свое начало Киевская Русь.
Вернемся все же в наше время. Удивительный вид открывается с городища возле Русских Сарсаз. Лучшей видовой площадки на пойму Прости не найти. Само городище существовало еще при именьковской, то есть добулгарской культуре, о чем свидетельствует двойная система охранных валов, расположенных на значительном расстоянии друг от друга. Георгий Иванович нашел свой старый раскоп десятилетней давности, из которого были подняты частицы именьковской и булгарской керамики и металлические артефакты. С одной стороны городище закрывает крутой склон коренного берега, а с другой многометровый обрыв оврага, тянущегося до самой Прости. Рассказать о фантастической, нереально красивой картине поймы, открывающейся глазам, невозможно, просто не хватит слов. Можно стоять на этой возвышенности и буквально есть глазами распахнувшиеся перед тобой красоты нашей родины. Смотреть на плавные изгибы сверкающих на солнце речных проток, на Прость, несущую серебряные блестки воды прямо под ногами, на колышущиеся под ветром пойменные травы, собранное деревенскими жителями в редкие стожки подсушенного сена, на разбросанные тут и там охристые, туго стянутые барабаны на выглаженных пресс-подборщиками лугах, перемежающихся ярко-зелеными шарами кустов, на неожиданно близкий высокий правый берег Камы, на обрывистую кручу мыса Вандовки, на синюю даль, теряющуюся в дневном мареве и на пару коршунов, лениво парящих в дневном зное раскаленного неба. Жаль, что мы были на городище в жаркий солнечный день. Сюда надо приехать в позднюю осень, когда прозрачный, уже холодный воздух откроет нереально далекий горизонт, когда четкость и контрастность предметов позволят различать даже отдельно стоящие деревья на правом берегу Камы, покатый берег Покровского залива и даже лодки, вытащенные на зимовку под самой Вандовкой. Фотографии не смогут передать открывающуюся глазам картину, но, хоть какое-то представление вы получите:
Рассказывал в предыдущем посте о именьковском городище, расскажу и о селе Русский Сарсаз, чьим именем и названо городище. Название села имеет тюркские корни, «сар» — желтый «саз» — болото, топь. Оно действительно расположено в пойме ныне утерявшей свое название речушки. Что заставило поселиться в этом низменном, сыром, наверняка полном комаров и мошек месте первых переселенцев, сейчас трудно понять, предлагайте свои версии. Появление на этом месте первых жителей типично для середины XVII века — это были беглые люди, которых сменили перевезенные с правого берега крестьяне крупных землевладельцев Казанской губернии — Стахеевых. Упоминается село Русский Сарсаз уже в 1678 году. С 1721 года мужское население села по указу Петра I сделалось приписным, то есть приписанным для работ на заводах. Мужчины Русских Сарсаз уходили на зиму на работы на Воткинский и Ижевский железоделательные заводы. Село быстро разрасталось, к 1908 году жителей только мужского пола насчитывалось 2224 человека. В 1880-ых годах в селе была открыта земская школа, работали 9 ветряных мельниц, 2 кузницы, 1 казённая винная и 4 мелочные лавки. В 1879 году по проекту казанских архитекторов П.И. Романова и В.П. Александрова взамен обветшавшей старой деревянной на средства елабужского купца Ивана Стахеева была построена каменная двухпрестольная церковь Покрова Пресвятой Богородицы с приделом Ильи Пророка. В храме хранилась местночтимая икона Божией Матери «Скоропослушница», собиравшая паломников не только из Казанской, но также из соседних Оренбургской и Вятской губерний. По обиходному названию церкви — Покровской, село часто называли Покровским, по крайней мере такое села название можно видеть на картах XIX века. В XX веке село и церковь постигла участь многих российских сел. В борьбе с религиозными пережитками церковь закрыли, одно время в церкви работал дизель-генератор, снабжавший село электроэнергией. Количество жилых домов сейчас можно пересчитать по пальцам одной руки:
Часто брожу по развалинам, иначе не назовешь, некогда величественных, собирающих по православным праздникам огромное количество людей, являющих собой настоящее чуда русской архитектуры, по развалинам храмов, влачащих ныне свое жалкое состояние. Может быть, действительно, мы нация манкуртов, не помнящих, или сознательно забывших свое недавнее (что с точки зрения истории 100-150 лет) прошлое. Кто-то мечтает о строительстве новых мегаполисов в Сибири, а кто-то развешивает баннеры по пустырям исчезающих городов. Не может быть будущего у нации, если такие здания, строившиеся всем миром, ибо к стахеевским деньгам было приложено немалое количество средств прихожан, пока такие памятники прошлого России будут разрушаться и умирать. Наверняка найдутся те, кто скажет, что давно уже нет прихода, что реставрировать брошенные церкви затратно и бессмысленно и что все равно нельзя будет его использовать. Но, подумайте, красота не может быть бессмысленной. Находятся же спонсоры для строительства новых храмов, на новых местах. Ничуть не менее почетно возродить и старые храмы, пусть в глуши, но от этого они не станут менее прекрасными. Посмотрите на эту настенную роспись, на эти лики святых — им почти 150 лет, еще немного и они исчезнут навсегда. Жаль, если останутся только фотографии Покровской церкви — церкви Покрова Пресвятой Богородицы, что еще стоит в Русских Сарсазах:
А не заглянуть ли нам в прошлое Чистопольского уезда? (очередное продолжение)
Продолжу свой рассказ о поездке с известным чистопольским краеведом Георгием Ивановичем Лыковым по городищам и селищам Чистопольского района. Пока мы все еще находимся к востоку от Чистополя.
Последнее городище, до которого мы добрались в тот день находится с южной стороны забытой и заброшенной деревни Малая Полянка. Немало видел я «заброшек» в нашем Чистополе, но увиденное в этой деревне повергло меня в шок. Вот так умирают русские деревни — безмолвно, безнадежно, безропотно. Покинутые людьми они быстро зарастают лесами, рушатся некогда крепкие срубы, проседают крыши, разваливаются сараи, бесстыже открывая постороннему взгляду свои погреба. Вспомнил, что возле Житомира гулял по выстроенной для съемок фильма о славянах кинематографической деревне. Там были и деревянные дома-землянки со входом, завешанным рогожкой, загоны для скота из толстых жердей и огороженные для каких-то посадок участки. Все это выглядело живописно и казалось очень древним. Так вот той кинематографической деревни далеко до Малой Полянки. Грусть — это не то слово. Боль за наше брошенное и навсегда забытое прошлое, вот что ощущаешь при виде этих развалин. Георгий Иванович, как потерянный, бродил среди рукотворной разрухи в поисках дома, в котором они останавливались в последней экспедиции, с трудом угадывая деревенские улицы. А ведь еще двадцать лет назад деревня была полна молодежи, в домах горел свет, а по вечерам танцы с приехавшими на уборку студентами. Сегодня лес уже съел большую часть селения. На редкие дома, еще стоящие на заросших улицах, без крыш, с покосившимися сараями, с выбитыми стеклами окон, упавшими заборами, без слез и не взглянуть. Местное чудо — возле брошенного дома стоял таксофон. Сняв трубку я услышал гудок, таксофон работал. Городище было еле заметно южнее гигантских зарослей крапивы, знаменующих окраину деревни. Разветвленная сеть оврагов не давала пройти к городищу, пришлось обходить эти естественные препятствия краем огромного поля созревших подсолнухов. Небольшое по размерам, оно втиснуто меж двух оврагов — Малинового и Орловского, по которому протекает речушка, впадающая в Прость. Судя по всему, каких-либо фундаментальных или хотя бы основательных археологических исследований здесь не проводилось. Остатки оборонительной системы укреплений, состоящей из двух еле заметных защитных валов и рва между ними — вот и все, что осталось от находившегося на этом месте 800 лет назад древнего города.
По традиции, немного о самой деревне. Деревня Малая Полянка, как подсказывает и-нет, появилась в начале XIX веке. Селом она так и не стала — средств на постройку церкви у немногочисленного населения не нашлось. До 1860-х гг. жители относились к категории помещичьих крестьян. Занимались земледелием, разведением скота. В лучшие ее годы в деревне проживало свыше 200 человек, сейчас — ни одного.
На мои статьи об исчезающих селах, о величественных храмах, доживающих без ухода свой век приходит много откликов и комментариев. Даже в личке иногда мне пишут слова благодарности за пусть краткое, но такое трогательное, вызывающее ностальгическую грусть прикосновению к нашей прошлой, кажущейся с высоты сегодняшнего возраста, счастливой жизни. Да, тогда мы были молоды, впереди была вся жизнь, и нам казалось, что год от года она будет все лучше и лучше, и все, что окружало нас в детстве никуда не уйдет, оно останется с нами навсегда. Увы — жизнь меняется стремительно. Прошел этап укрупнения деревень — и с лица земли исчезли и Березовка, и Горбачевка, и Николаевка, и Новоселки, и еще, наверное, с десяток деревень Чистопольского района. Развалились колхозы и совхозы — и на земле появились новые хозяева — фермеры, а за ними и крупные землевладельцы. Деревни стали им не нужны, современная техника сделала лишним огромное количество людей, когда-то работавших на земле. Прибрежные селения, такие как Змеево, Булдырь, Четырчи, Галактионово, (бывший Савин городок), Кубасы стали превращаться либо в садово-дачные товарищества, либо застраивались загородными усадьбами и домами новых поселенцев разной степени достатка. А неперспективным, с точки зрения этих новых жильцов, деревням, (ведь нет же рядом реки), уготована судьба Малой Полянки. Бурнашево, Подколок, Русский Сарсаз — жителей в них почти не осталось. Странно, но красота русской природы, ее неповторимые ландшафты, березовые колки разбегающиеся по терассам оврагов, синеющие в отдалении сосновые или дубовые лесочки, полные грибов, ароматы цветущей в июне липы, небольшие озерца или пруды, синеющие сквозь заросли камыша, речушки, текущие в прохладной глубине оврага, запахи луговых цветов, заставляющие бросить велосипед и забраться в самую гущу этого буйного разнотравья и случайно найти там, на склоне сухого ложка, огромную поляну луговой клубники, все это богатство не пользуется спросом. Хотя, может это и к лучшему:
Ну, а это продолжение поста о древнем городище, что возле уже утерянной деревни Малая Полянка. Фотографии самого городища, как всегда и не поместились. Хотя от городища почти ничего и не осталось:
А не заглянуть ли нам в прошлое Чистопольского уезда (продолжение третье)
«Давненько я не брал в руки шашек», — говорил один из персонажей бессмертной (опять заезженный штамп) поэмы Николая Васильевича Гоголя по фамилии Ноздрев. Вот и я подумал, что давно ничего не писал о далеком прошлом нашего края. До сих пор я рассказывал о городищах и селищах, расположенных к востоку от Чистополя. Но и западнее Чистополя археологов и краеведов ждут не менее удивительные находки — Березовское городище, Утяковское, Сосновские, Остолоповское селища, не говорю уж о самом раскопанном, самом исследованном месте — Джукетау или Жукотине. Кроме того, в своих поисках мы с признанным знатоком истории края Георгием Ивановичем Лыковым наткнулись на удивительное место, неподалеку от нынешнего села Байтеряково, находящееся на крутом мысу-стрелке у впадения Бахты в Каму, испещренное таинственными ямами-землянками. Это место до сих пор не входило в перечень найденных городищ или селищ нашего района и, возможно, требует квалифицированного исследования.
Ну, а сегодня мой рассказ о Остолоповском селище — булгарском поселении еще домонгольского периода, расположенного на остром мысу, образованном Камой и одним из заливов Шенталки. Лет двадцать назад я частенько ездил в эти места на рыбалку, сочетая приятное с полезным — здесь фантастической красоты природа, да и рыба по весне неплохо клюет. И вот однажды решил пройти через небольшую промоину на ровный протяженный полуостров, уж больно место это показалось мне примечательным. К своему удивлению я увидел на мысу свежие раскопы — следы явных археологических изысканий. Подивившись диковинной конфигурации разрезов, я вернулся к занятию, за которым я сюда и приехал, к рыбалке — история тогда меня еще не сильно интересовала. Но сегодня, найдя в журнале «Поволжская археология» статью К.А. Руденко «О некоторых итогах исследования Остолоповского селища» https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-itogah-.., я понял, что наткнулся тогда на раскопы археологической экспедиции Руденко. Пользуясь случаем, хочу сказать, что не часто встречаю такой скрупулезный разбор собранных артефактов, позволивший сделать аргументированные выводу по истории селища, статья Руденко и легла в основу материала этого поста.
Остолоповское селище расположено к востоку от села Речное, и получило название по старому наименованию села — Остолопово, на мысу, берег которого круто обрывался в пойму Камы, ныне затопленной при создании Куйбышевского водохранилища. С южной стороны селища открывался чудесный вид на озеро и старицу реки Шенталка. Подступы к селищу контролировались Остолоповским городищем, то есть укрепленным поселением, находящемся неподалеку на крутом коренном берегу. При заполнении водохранилища камская вода подошла к самому селищу и, увы, ежегодно отгрызает у него немалую часть культурного слоя. Сегодня от него осталась совсем узенькая стрелка. Селище известно еще с XIX века, а в 1960-е годы исследовалось экспедициями Тамары Александровны Хлебниковой, давшей описания многочисленных городищ и селищ на территории Татарстана. Остолоповское селище уверенно датируется концом X — серединой XII веков. На селище найдены ювелирные изделия из стекла, поделочных камней, лазурита, янтаря, сердолика, даже веточка розового коралла была найдена в раскопе, медный сосуд, предположительно из Ирана, а также женские украшения из бронзы и серебра. В культурном слое и в объектах селища были найдены многочисленные фрагменты керамики, в том числе поливной, глиняные прясла, железные ножи, металлические части замков и ключи к ним, наконечники стрел, железные накладки на конскую уздечку, железные пластины от доспехов. Раскопки выявили остатки деревянных домов с печами одинаковых конструкций, которые позволили сделать натурную реконструкцию типичного булгарского жилища того периода, выставленную в экспозиции Национального музея Республики Татарстан. Вместе с тем исследователи не нашли даже следов занятия сельским хозяйством, скотоводством, гончарным и металлургическим производством. Судя по находкам, Остолоповское селище представляло собой огромную торговую факторию, куда свозились товары в том числе и из Византии, Персии, а также стран балтийского побережья.
Такое богатое поселение не могло не привлекать вооруженных любителей наживы. Трагедия пришла в начале XII века, примерно за сто лет до нашествия орд Батыя. Экспедицией Руденко были найдены следы пожара и разрушений почти всех жилищ, и, что самое ужасное, обнаружены человеческие скелеты, а также расчлененные части человеческих скелетов в хозяйственных ямах, зернохранилищах, где люди, по-видимому, пытались спрятаться, в жилых постройках и возле них. Разбросанные по всей территории селища железные наконечники стрел и пластины доспехов также свидетельствовали о жестоком разгроме поселения. Раскопки показали, что жизнь поселения возобновилась спустя какое-то время после разгрома, но прежнего расцвета Остолоповское селище уже не достигло. Можно еще добавить, что по одному хорошо сохранившемуся черепу в Московском бюро судебно-медицинской экспертизы была сделана скульптурная реконструкция внешнего облика девушки-булгарки.
Мы с Георгием Ивановичем побывали на Остолоповском селище в начале осени. Камская вода в этом году ушла далеко от берега, и мы надеялись найти на обнажившейся отмели что-нибудь интересное. Увы, многочисленные ямки на берегу говорили о том, что «черные копатели» с металлодетекторами, этот бич древних исторических объектов, уже прочесали берег в надежде пополнить рынок артефактов своими находками. К счастью, фрагменты керамики их не интересуют, а мы нашли несколько любопытных образцов. Сравнив узоры на найденных фрагментах керамической посуды с образцами из великолепной монографии Наиля Набиуллина «Джукетау — город булгар на Каме», можно увидеть, что в Остолоповском селище была в ходу как посуда «общебулгарского» типа, так и посуда, произведенная в Джукетау. Из интересных находок можно отметить еще несколько ям глубиной до двух метров, заполненных, по-видимому, культурным слоем, резко контрастирующим с соседствующей коренной породой. Эти ямы появились в обнажениях камского берега и, скорее всего, тоже исчезнут после следующего весеннего паводка. Предназначение этих ям — погреба ли, зернохранилища, остатки ли фундаментов печей, по внешнему виду нам определить не удалось. Раскопы экспедиций Руденко уже почти смыло весенними паводками, жаль, если будет утрачен эталонный, каким его считают специалисты, памятник домонгольского булгарского поселения — Остолоповское селище:
А не заглянуть ли нам в прошлое Чистопольского уезда (продолжение четвертое)
И заглянем мы с вами в глубь веков, в раннее средневековье, в наше далекое прошлое. В предыдущих статьях я рассказывал о поездке на Русско-Сарсазское городище, принадлежащее именьковской культуре, именьковской общности. Таких городищ, возникших к середине I тысячелетия на территории нашего района было не одно и не два. Поселения этого периода сегодня выявлены возле Байтерякова, Кубасс, Суворовки, Бурнашево, Среднего Толкиша, Чистопольских выселок. И это только в нашем районе, а вообще на территории Татарстана, Ульяновской и Самарских областей археологами было обнаружено около 500 городищ, селищ и некрополей, которых можно отнести к именьковской культуре. Пришло время рассказать немного подробнее о этой удивительной общности людей, оставившей нам немало загадок. Кто они, носители какого языка были именьковцы, откуда и когда появились в Поволжье и в Прикамье, чем занимались, и куда, и почему исчезли с обжитой территории. Немало копий было сломано историками и археологами, пока, наконец, к концу XX века с появлением значительного количества находок на именьковских поселениях история именьковцев не стала проясняться. Исследование и сопоставление земледельческого и кузнечного инвентаря, найденных остатков жилищ, и, главное, традиций погребального обряда подтвердило гипотезу о переселении именьковцев с Верхнего и Среднего Поднепровья, с территории древних праславянских племен. Что стронуло с места живших там людей, что заставило их искать лучшей доли? Возможно это были начавшиеся во II веке походы воинственных готов, расселяющихся с сурового побережья Балтийского моря на юг, занявших в III веке Северное Причерноморье и вставших на берегах Дуная на границах Римской империи. Начиналось, так называемое, Великое переселение народов. Так или иначе, в III веке на территории Среднего Поволжья и Нижнего Прикамья появилась многочисленная общность людей, обладающих передовыми, по тому времени, сельскохозяйственными навыками, имеющих соху с металлической пластиной — ральником (оралом, помните?), что позволяло распахивать и засеивать большие площади зерновыми культурами, с развитым металлургическим производством, гончарным промыслом и типично славянским погребальным обрядом. Именьковцами их стали называть по первому наиболее полно изученному городищу, расположенному неподалеку от села Именьково, у нас, в Татарстане. Занимались именьковцы и скотоводством, но, все-таки, основное их занятие — земледелие, поэтому и расселялись именьковцы по берегам рек, на землях с хорошим черноземом, и поклонялись богу плодородия, фигурки которого были найдены при раскопках именьковского городища. Внешний вид этого божка я не буду приводить, чтобы не маркировать публикацию значком 18+, поищите сами в и-нете. Уже к V веку именьковцы расселились от Суры до Ика, от Самарской Луки на Волге и до Камы и даже перешли реку. По крайней мере, возле деревни Ташкирмень, села Рождественно, населенных пунктов Кирби, Именьково до сих пор видны защитные валы именьковских городищ. Но, как всегда — это но. Начиная с VII века на территорию расселения именьковцев, с юга, с Причерноморских степей, начинают проникать булгарские племена, теснимые Хазарским Каганатом. Воинственные кочевники, закаленные в борьбе с хазарами вытеснили именьковцев с их земель и уже в VIII веке заняли практически весь ареал их обитания. Но, как оказалось, вытеснили, да не всех. В 30-е годы VIII века наступила кульминация войн Хазарского каганата с Арабским халифатом. В 737 году арабский военачальник Мерван в погоне за хазарским каганом дошел до территории Среднего Поволжья. Источники говорят, что только переправившись со своим войском на правый берег Волги и уничтожив лодки каган смог уйти от преследования. Те же источники утверждают, что Мерван захватил в плен около 20 тысяч семей ас-сакалиба, хотя количество, как всегда бывает у победителей, скорее всего сильно преувеличено. В современной историографии принято считать, что ас-сакалиба представляли собой именно славян. Так что, по-видимому, именьковская культура не прекратила свое существование с приходом булгар, а какое-то время сосуществовала вместе с ними.
Есть еще одно письменное подтверждение, что именьковцы и в более поздние времена жили на территории уже сформировавшегося Булгарского ханства. В 922 году, по приглашению булгарского правителя Алмуша, булгар посетило посольство багдадского халифа. Секретарь посольства Ахмед ибн Фадлан, оставивший «Записки…» о путешествии, иногда называет Волжскую Булгарию страной славян, а булгарского правителя Алмуша – царём славян! Возможно, это связано с тем, что в Волжской Булгарии, по крайней мере в начале X века, кроме языка на котором говорили булгары, в ходу был еще и славянский язык. В «Записках…» ибн Фадлана встречается упоминание о том, что в путешествие он взял двух помощников с прозвищами Тюрок и Славянин. Логично предположить, что это были переводчики. А это лишний раз доказывает, что в ранней Волжской Булгарии имели хождение как минимум два языка, одним из которых был славянский. Скорее всего, его носителями и были потомки именьковцев.
Что-то предисловие затянулось, пора с ним заканчивать, но история именьковской общности настолько детективна, полна драматических поворотов, что удивляешься, почему никто сериал о их жизни не снял. Именьковцы оставили в наследство кочевым булгарам навыки земледелия, развитую металлургию, огромное число укрепленных поселений — городищ. Как сложилась дальше судьба именьковцев — предмет незавершенного спора историков. Кто-то говорит о ассимиляции именьковцев булгарами, кто-то видит в них предков кряшенов. Верно лишь то, что значительная часть именьковцев все-таки ушла из ареола своего обитания, и ушла она обратно на свои приднепровские земли, на свою прародину, образовав там волынцевскую культуру с уже привычными, сопутствующими именьковской культуре, признаками, впоследствии принимавшей участие в образовании Киевской Руси.
Вот теперь пора вернуться к Кубасскому городищу, как называют его краеведы. Найти его не просто, но, может, это и к лучшему. Среди густого леса, прямо перед тобой, неожиданно вырастают огромные, метров 4-5 высотой, земляные защитные валы с глубоким рвом между ними. Стоишь, ошеломленный, перед ними и думаешь, как можно было соорудить земляной, не каменный, вал, да так, что он за полторы тысячи лет не оплыл, не расползся по поверхности, сохранил крутые, не сразу и влезешь, склоны, только лесом зарос. С северной стороны городище обрывается крутым берегом прямо в Каму, с западной его защищают отвесные склоны оврага, настолько глубокого, что солнце, наверное, никогда не освещало его дно. Огромная дуга двойного вала со рвом завершает укрепление городища. На концах внутреннего вала видны ямины в земле, диаметром 2-3 метра. Возможно. это следы сторожевых сооружений, что некогда стояли над обрывами. Жили именьковцы в заглубленных в землю на несколько венцов домах, иногда в землянках. От деревянных конструкций, конечно, ничего не осталось, по всей территории городища виднеются только ямы, по которым можно восстановить всю картину поселения. В центре яма несколько большего размера — видимо осталась от какого-то общественного дома. Бродишь по территории городища, как по музею под открытым небом. Сразу вспомнилась славянская деревня, воссозданная в пойме реки Тетерев, неподалеку от Житомира. Четыре года она уже существует, привлекая туристов своей первобытной красотой. А мы что, хуже? А нам слабо? Ведь Кубасское городище, вероятно, единственное, предстающее перед нами в такой сохранности, в своей подлинной красоте, дающее представление о непростой жизни именьковцев.
Статья написана по материалам открытой печати. Приведенные в статье выводы разделяются не всеми историками, но, на то она и история, дающая возможность бесконечного исследования, уточнения и стремления к истине.
Последние фотографии, увы, не Кубасского городища, они сделаны в той, воссозданной славянской деревне под Житомиром. Но они так хорошо передают атмосферу деревни и характер построек наших далеких предков! А нам о такой деревне остается только мечтать:
Джукетау? Как, он хочет написать о Джукетау? Да о Джукетау уже столько написано, да мы уже столько раз видели эти глиняные черепки в музее, что же еще нового можно сказать о Джукетау? Мы и сами прекрасно знаем, что Джукетау это, это, это… И все-таки, что же такое Джукетау? Справедливости ради стоит сказать, что о Джукетау действительно написано немало научных и популярных статей, а вышедшая в 2011 году великолепная монография кандидата исторических наук, специалиста по археологии Волжской Булгарии Наиля Гатиатулловича Набиуллина «Джукетау — город булгар на Каме» настолько полно и скрупулезно рассказала не только о экспедициях, в которых он участвовал, но и обобщила весь опыт, весь научный багаж предыдущих раскопок, так что добавить к исследованиям специалистов древнего поселения на Каме действительно нечего. Но все же… Что же такое Джукетау? Когда-то я сам, прочтя многотомную «Историю государства российского» Николая Михайловича Карамзина и неоднократно натыкаясь на упоминание большого торгового города на Каме под названием Жукотин, пытался отыскать на доступных тогда старых картах этот город. Интернета в те времена еще не было и я никак не мог идентифицировать его с современными названиями городов, ну, не мог же он провалиться сквозь землю! В конце-концов меня осенило — да ведь бывшее уже тогда в употреблении название городища Джукетау и есть искаженное название города Жукотин, и мы живем по соседству с ним! Это было первое историческое открытие, сделанное мною самостоятельно. Это сейчас, в эпоху инета, практически любые исследования в области истории доступны поисковику, а тогда… Сегодня мы уже привыкли к названию Джукетау, а ведь до 80-тых годов XIX века это место иначе как Жукотин и не называли. В летописных источниках можно встретит названия Жюкотин, Жукомен, Жукотин, на картах 1367 года, выполненных итальянцами братьями Пиццигони, Жукотин указан как Sacetim. При первом Генеральном межевании земель Российской империи, проводящемся на рубеже XVIII — XIX веков был также зафиксированы остатки древнего города Жукотин, находящиеся в 6 верстах от Чистополя. Название Джуке-Тау впервые появляется в работе П.А. Пономарева, исследовавшего городище и селища в 1880-1881 годах. Петр Алексеевич сделал созвучное переложение названия города Жукотин на татарский язык. Таким образом в научный оборот было введено и второе название Жукотина — Джуке-Тау, Липовая гора. Можно еще сказать, что к настоящему времени научное сообщество не располагает тюркоязычными или арабскими письменными источниками, в которых упоминался бы город Джуке-Тау, хотя в эпическом дастане татарского народа »Идегей» фигурирует название Джуке-Тау. Изучая древние укрепленные поселения, нельзя не заметить, что строились они на возвышенных труднодоступных местах, с хорошим обзором во все стороны, что позволяло вовремя заметить неприятеля. И уж конечно, ни в каком лесу, являвшимся укрытием для врагов, городище бы не строили. Значит на момент застройки крутой возвышенный берег Камы был совершенно безлесым, а липовый лес, судя по возрасту растущих на камском склоне деревьев, появился относительно недавно и дал поэтическое название древнему городищу — Липовая гора — Джуке-Тау. Так почему же Жукотин? Традиционно названия городов давались по наименованию рек, возле которых строились поселения, а на тех же старых картах нынешняя речка Килевка называется Жукотью, или Жукотинкой. На основе поднятого при раскопках материала историки относят его появление к середине X века. Это было время интенсивного развития городов Волжской Булгарии, и территориальное отсутствие конкурентов, выгодное географическое положение позволило городу Жукотин вскоре стать не только значительным ремесленным и торговым центром Нижнего Прикамья, но и главным городом так называемого Жукотинского княжества. Кроме самого городища на плоской вершине высокого мыса, который выполнял роль крепости, рядом, по соседству, появилось селище, его называют Крутогорским, сейчас на его месте поселок Крутая Гора и, частично, территория элеватора. Но, поскольку на макушке камского мыса каменистая земля, да и город рос, вскоре появилось и второе селище, уже на более удобном месте — на противоположном берегу Жукотинки, и очень быстро расширило свою территорию. Это селище называют Донауровским, по названию близлежащей деревни. И городище и оба селища имели свои некрополи. Еще в середине XIX века упоминаются надмогильные камни на захоронениях, увы, позже растащенные местными жителями на хозяйственные нужды. Археологические раскопки на месте городища и селищ выявили богатейший материал, который и позволил судить о временных рамках развития, ордынском разбое в 1236 году, восстановлении и расцвете древнего города в золотоордынский период. В раскопах обнаружился слой золы, а также были найдены человеческие скелеты в одной из хозяйственных ям, что говорило о ожесточенной борьбе и взятии города татаро-монголами. Но город выжил. Городище уже не заселялось, его защитные сооружения не восстанавливались, что, вероятно, связано с действующим в то время запретом строительства укрепленных крепостей, а в оба селища — посада вскоре вернулись люди и вновь закипела будничная жизнь. Из разоренных войной соседних районов в город стекались люди, вновь заработало торжище, металлургическое и, конечно, гончарное производство. Еще школьниками, приезжая в Килевку на рыбалку, (тогда городских очистных сооружений возле нее еще не было, и речка была чистой), мы с удивлением смотрели на большую печь, вероятно для обжига глиняной посуды, выглядывающую из осыпи речного берега. Сейчас на этом месте исследователи размещают Гончарный поселок.О гончарах надо сказать особо — археологи отмечают, что керамическая посуда, произведенная в Жукотине на протяжении всего периода существования города, сохраняла свои традиционные признаки, и именно она, в первую очередь, и позволила судить о границах влияния города, и, фактически, о границах, так называемого Жукотинского княжества. Когда-то давно, уже не помню в какой книге, я прочел, что в XIV веке Жукотин занимал площадь, большую, чем Париж, да и жителей в нем было больше, нежели в тогдашнем Париже. Помнится, что тогда я не поверил, а сейчас не удивлюсь — ведь раскопки показали, что к этому времени город вырос и и вытянулся вдоль Камы на несколько километров, перешагнув еще через два оврага, вплоть до современного дачного поселка Галактионово. Некоторые исследователи считают, что главное торжище Жукотина, по существу торговая фактория, располагалась в устье реки Прость, на месте современного Чистополя. Город Жукотин был очень богат, об этом говорят многочисленные клады серебряных монет, а также дорогих ювелирных украшений, найденные на территории селищ, и, конечно, привлекал любителей легкой наживы. «Повесть временных лет» упоминает о неоднократных набегах новгородских ушкуйников и дружинах русских князей, совершенных именно в XIV веке. Естественно желание горожан спрятать торговую площадку в более укромное место, подальше от Камы, которая являлась не только торговым путем, так и дорогой разбойников. И именно в XIV веке на чистопольском мусульманском кладбище появляются надмогильные плиты, сохранившиеся до нашего времени. Последнее упоминание города в летописях рассказывает о участии Болгарских и Жукотинских князей в сражении между Суздальским и Московским князьями в 1411 году. Что же было дальше с городом? Летописных свидетельств больше нет, вплоть до 1654 года. В докладной записке 1654 г. на строительство Билярского острога на старой Закамской оборонительной черте сказано, что из степи прошли ногайские воины, пересекли черту у реки Малый Черемшан на 41-й версте, «погромили» Савву Аристова в с. Жукотино и ушли назад той же дорогой. Между этими двумя датами был распад Золотой орды, усиление Московского княжества, возвышение, расцвет и падение Казанского ханства в 1552 году, а для Жукотина — продолжающиеся набеги русских князей и речных разбойников, которые, в конечном итоге и привели к разорению некогда богатой столицы Жукотинского княжества, города Жукотин. В XVII веке большинство селищ пустовало, по крайней мере крестьяне Саввы Аристова, переселялись на левый берег Камы «на пустошь» и вновь появившееся поселение, выросшее фактически на западной окраине Жукотина, называли Савин городок. Проводившиеся археологические исследования не зафиксировали на территории Жукотина культурного слоя, датируемого позднее XIV века.
Сегодня о большом, богатом торговом центре Закамья — городе Жукотине-Джукетау, столице Жукотинского княжества, напоминает лишь три защитных вала со рвами между ними, когда-то ограждающие городище, да и те наполовину находятся на территории элеватора, поселок Крутая гора на месте первого, Крутогорского селища с некрополем, на месте второго, Донауровского селища со своим некрополем — пашня, ежегодно поднимающая из культурного слоя редкие исторические артефакты, легкую добычу « черных копателей», варварство, скажете вы — и будете правы, да установленный стенд, извещающий о том, что вы находитесь на месте историко-культурной (почему культурной?) заповедной территории «Джукетау».
Статья написана по материалам открытой печати и отражает точку зрения автора:
Мы насчитали одиннадцать надгробий. Говорят, что еще двадцать лет назад их было пятнадцать. Жаль, если еще через двадцать лет их станет меньше. Старое кладбище таит немало тайн. Я не нашел в и-нете ни одного перевода ни одной эпитафии, высеченной на могильных камнях «Ханского» кладбища, по-видимому, их просто нет. Кто здесь похоронен, кем были при жизни эти люди — пока неизвестно. Памятники датируются первой половиной ХIV века, причем датировка проведена по типологическим признакам. Еще одна загадка — на нескольких надгробиях эпиграфические надписи явно сбиты. Чем после смерти провинились усопшие, чьих рук это дело, вряд ли здесь орудовали современные вандалы. Традиционно кладбище отнесено к ближайшему городищу, это городище возле села Старое Ромашкино, что тоже вызывает вопросы, ведь до него около двух километров, вряд ли усопших хоронили так далеко от места их прижизненного обитания, хотя, если принимать во внимание, что это все-таки «Ханское» кладбище…:
А не заглянуть ли нам в прошлое Чистопольского уезда (продолжение шестое)
В прошлой статье я рассказывал о поездке на «Ханское» кладбище, или «Ташбилге», как его иногда называют. Расположено оно неподалеку от городища, которое называют Староромашкинским по названию соседнего с ним села. Летом мне не удалось на него попасть, поэтому, взяв в провожатые Георгия Ивановича Лыкова, которого вы, я надеюсь, уже хорошо знаете, мы поехали на городище в прошлое воскресенье, пока еще зима не вошла в свои права и не замела снегами окрестности, сравняв сугробами и поля, и неглубокие балки, и овражки, и защитные сооружения, созданные жителями поселения почти тысячу лет назад.
Построенная еще в советские времена высоченная плотина, запрудившая безымянный ручей, надежно укрывает городище от нескромных взглядов с автодороги Чистополь — Альметьевск. Я и сам не раз бывал когда-то на образовавшемся рукотворном озере в поисках карасей, но за плотину заглянуть не удосужился. А зря. Меж двух сходящихся оврагов, защищенное с открытой местности тремя рядами валов высотой до трех метров — это центральный вал, и двумя глубокими рвами, привольно раскинулось плато, на котором нетрудно представить себе несколько сотен добротных жилых домов, общественные здания, хозяйственные постройки, гончарные мастерские и торговую площадь. Даже сейчас, при том, что ежегодно, расползающиеся овраги отрезают от городища по несколько метров, площадь самого городища достигает почти четырех гектар. И даже сегодня территория Староромашкинского городища превосходит по площади городище Джукетау-Жукотин, а какой-же огромной она была тысячу лет назад! Это мы говорим только о городище — поселении, защищенным сооружениями из земляных валов и рвами между ними, а иногда еще и частоколом из заостренных бревен по верху одного из валов. Валы просто поражают воображение — не оплыли, почти не расползлись. Такое я видел только на Кубасском городище, принадлежащем именьковской культуре. Если городище Джукетау-Жукотин истоптано, изрыто, деформировано, там даже сабантуи когда-то проводились, к тому же половина городища находится на территории элеватора, не видна и не доступна для исследований, то городище возле Старого Ромашкина — как на ладони, да и защитные сооружения в прекрасной сохранности. По центру защитных валов с южной стороны городища сохранился проем, здесь некогда располагался въезд в город, а это был, несомненно, средневековый город. Еще в 1925 году городище раскапывалось Александром Константиновичем Буличем — первым директором Чистопольского краеведческого музея . Он же побывал и на «Ханском» кладбище. Булич вспоминал, что на кладбище он насчитал тогда около ста надмогильных памятников. С 2013 года в течении нескольких сезонов на городище работала Елабужская археологическая экспедиция, возглавляемая кандидатом исторических наук, деканом факультета татарской филологии Елабужского педагогического института Альбертом Зуферовичем Нигамаевым. Благодаря работе этой экспедиции можно с уверенностью говорить о том, что неподалеку от Джукетау-Жукотина располагался средневековый город, соперничающий со столицей Жукотинского княжества размерами, а, возможно, и красотой, и величием. Были найдены останки деревянных домов, хозяйственных построек, а также просто огромное количество (свыше 60 тысяч) фрагментов гончарной и лепной керамики, значительное количество предметов оружия ближнего и дальнего боя и защитного снаряжения воинов, и, конечно же, большое количество женских ювелирных украшений. Анализ находок показал, что все они относятся к домонгольской, дозолотоордынской эпохе. Экспедиция определила и время зарождения города — как и у нашего Жукотина-Джукетау это вторая половина X века, время появления и быстрого развития городов Волжской Булгарии. Интересно, что среди гончарной посуды почти не было находок керамики Джукетау, города — соперники? Экспедиция установила, что за пределами городища располагались три посада — селища, два из них имели свои некрополи. Таким образом, площадь всего города, с центральной укрепленной частью, тремя селищами и кладбищами достигала девяноста гектар — большой, просто огромный по средневековым меркам город. Увы, как и на территории Джукетау, слой золы в культурном слое говорил о том, что город подвергся нападению, причем жестокому — были найдены следы поспешных погребений, а также железные наконечники стрел, застрявшие в остатках полусгоревших бревен домов. Татаро-монгольское нашествие 1236 года оборвало историю города. Город не смог восстановиться, в отличие от Жукотина, который достиг своего расцвета именно в золотоордынский период. Более позднего культурного слоя на месте Староромашкинских селений Елабужская археологическая экспедиция обнаружить не смогла. Возможно, уцелевшие после битвы жители укрылись как раз на территории чистопольских селищ, ведь надмогильные памятники на мусульманском кладбище Чистополя говорят о том, что в на территории Чистополя и в золотоордынское время проживали люди. Я побывал на городище уже после того, как прочел отчет экспедиции Альберта Зуферовича и уже знал, что многочисленные раскопы и шурфы на месте городища и селищ не нашли следов проживания людей на этом месте после 1236 года. Стоя на городском валу и оглядывая далекий горизонт, словно видишь вдалеке стремительную лаву кочевников, летящую на беззащитные селища, видишь и толпы безоружных людей, бегущих под защиту укреплений городища, видишь городских ратников, хватающих свои луки и колчаны со стрелами и спешащих к городским стенам. Эти два потока смешиваются, слышны крики бегущих в панике людей, плач детей, воинские команды, но все они скоро тонут в глухом топоте копыт тысяч и тысяч коней. В поднимающемся облаке пыли меркнет солнце. Селища, по-видимому, были сметены сразу. Храпящие от дикой скачки кони, роняя пену с изорванных поводьями губ, вставали на дыбы на краю оврага, пытаясь остановить свой бешеный бег, но напор многотысячного войска был так силен, что первые ряды всадников летели под откос. Овраг задержал атаковавших. Судя по огромному количеству наконечников стрел, найденных на территории городища, перестрелка длилась долго. Но силы были не равны. Город пал.
Летописные источники не сохранили название города. Он не упоминается и в описании набегов русских дружин в XI — XII веках. Может быть потому, что он оставался в стороне от торговых путей, жителям города была дарована спокойная жизнь на протяжении нескольких веков. После разгрома 1236 года город больше не восстанавливался. Переселившиеся сюда из-за Волги в середине XIIV века татары-мишары, пришли «на пустошь», родовая связь прервалась. Топонимика тоже бессильна помочь выявить название города. Жители села иногда называют это место «Калюш», но название это дано уже в современное нам время из-за похожести местности, на которой располагался город, на туфлю или калошу с приподнятым носком.
Немало тайн еще хранят чистопольские земли. И, конечно же, нужно изыскивать средства на консервацию и сохранение площадей разрушающихся со временем городищ, на планомерное продолжение археологических изысканий, на поиск новых артефактов для пополнение коллекций музеев, иначе новые находки опять достанутся «черным копателям», на изучение нашей истории, ведь без знания наших корней, истории нашего рода. невозможно понять наше настоящее, а уж тем более строить будущее.
Для продвинутых читателей вот ссылка на отчет Елабужской археологической экспедиции https://cyberleninka.ru/article/n/staroromashkinskiy-..
Статья написана по материалам открытых источников и отражает точку зрения автора:
В поисках информации по нашему Чистополю я часто натыкаюсь, с моей точки зрения, на интереснейшие сведения по поселениям, некогда составлявшим Чистопольский уезд. Чаще всего, подивившись прочитанному, спешу дальше, к следующим документам, в надежде, что когда-нибудь, потом, вероятно, когда время будет, может быть вернусь к описанию этих сел и деревень. Вот в случае с поселением, ставшей впоследствии селом Остолоповым, критическая масса прочитанного стала слишком большой, чтобы ее таить в себе.
Что же такое — Остолопово. В булгарские времена восточнее современного села, на стрелке, образованной впадением речи Шенталка в Каму находилось большое поселение, образованное еще в домонгольскую эпоху, во времена Волжской Булгарии, это X-XI века. Находки, найденные при проведении раскопок, говорят о обширных торговых связях этого поселения с восточными и южными регионами. В культурном слое и объектах селища найдены многочисленные фрагменты керамики, в том числе и поливной, глиняные пряслица, ножи, железные накладки на конскую уздечку, наконечники стрел, части железных замков и ключи к ним, а также ювелирные изделия из стекла и поделочных камней — лазурита, янтаря и цветных металлов. Были найдены остатки деревянных домов с печами одинаковой конструкции. В промоинах и обвалах по берегу Камы хорошо видны остатки хозяйственных ям, по-видимому, служивших кладовыми. Прошлым летом наш известный краевед Георгий Иванович Лыков показывал мне это селище. Очень интересны остатки этих самых хозяйственных ям, прекрасно различаемые в осыпях берега по заполнившему ямы чернозему. Поскольку при раскопках, проводимых экспедицией Казанского университета в 90-х годах прошлого века, не обнаружились предметы, необходимые для обработки земли, а было найдено просто невообразимое количество предметов торговли, был сделан вывод, что раскопанное селище являлось торговой факторией, огромным торжищем, окруженным необходимой инфраструктурой — домами, складскими помещениями и помещениями для ночлега прибывающих для торговли людей.
Экспедиция пришла к выводу, что нашествие войск Батыя не пощадило богатую торговую факторию. Видимо, 1236 год был рубежом развития селища, после чего оно пришло в запустение на многие годы. Монументальная монография Рафика Насырова «Сельское расселение в Западном Закамье» не содержит сведений о каком-либо поселении в этих местах вплоть до середины XVII века. В Писцовой книге Казанского уезда Семена Волынского (1647-1656 г.г.) также не упоминаются ничьи владения в этой местности. Возможно, писцы были недобросовестны, скажете вы? Но нет, писцовая книга отводит сенные покосы по луговой стороне Камы против Сорочьего острова (так раньше назывался остров, что напротив деревни Сорочьи горы) размером в пять тысяч копен, (а с десятины, считалось, можно составить 20 копен), огромную территорию вдоль Камы, «Олексею Аристову с товарыщи, за 4 человеки». А еще выше по левой прибрежной полосе Камы в 1647 году было уже переписано «за Савою Тимофеевым сыном Аристова в вотчине село Новое Никольское, Жукотино то ж». Новое — это значит, что работников своих Савва Аристов привез из старого Никольского на пустошь — нежилое место, некогда бывшее поселением. К 1647 году в Новом Никольском, Жукотине то ж было уже 20 крестьянских дворов, в которых проживало 249 крепостных крестьян. Можно добавить, что если поселение названо селом — значит в нем уже стояла или строилась по благословению церковь. Видел кто-нибудь в Галактионово, а именно так сейчас называется поселок на месте исторического Жукотина, церковь? Я тоже не видел, а была.
Вернемся к селу Остолопово. Интересно понять, откуда у села такое, с первого взгляда, странное название, Остолопово. В «Списке населенных мест Казанской губернии» Илиодора Износкова, выпущенного в 1893 году, можно прочесть следующее: «По преданию жил на месте села татарский богатырь Осталып, со славою защищавший свою родину и свободу; он был убит русскими воинами после взятия Казани». По Износкову получается, что до 1552 года на месте села Остолопово было татарское поселение, хотя, конечно, легенду к делу не пришьёшь.
На страницах Всероссийского генеалогического форума можно найти запись о том, что село было основано помещиком Остолоповым в 1688 году. Через три года под угрозой судебной тяжбы (Остолопова обвиняли в укрывательстве беглых крестьян) помещик отказался от села в пользу Казанского Кизического монастыря. Но в известных мне книгах сведений о помещике Остолопове я не видел. Хотя, действительно, по переписи 1716 года остолоповские земли вместе с жителями числятся за Казанским Кизическим монастырем. Все 26 дворов с 287 жителями. Православные монастыри стали появляться в Казанской провинции сразу же после завоевания Казанского ханства Иваном IV, прозванным в народе «Грозным». Так основание Зилантова монастыря положено при самом взятии Казани в 1552 году самим царем Иоанном Грозным на месте, где стояло царское знамя и погребены русские воины, павшие при взятии Казани. В 1555 году возник Богородице-Успенский мужской монастырь в Свияжске. В 1556 году устроен Спасо-Преображенский монастырь в Казани, сделавшийся центром религиозной жизни бывшей мусульманской столицы. Они являлись оплотом господствующей религии и центрами крещения местного населения. Монастыри щедро наделялись свободными и не всегда свободными землями в лучших местах. Получали они также в свою собственность и рыбные ловли (право на исключительный вылов рыбы в водоемах или указанных местах Волги и Камы, и угодья для сенных покосов, и водяные мельницы-мутовки, и дачи со строевым лесом. Казанский Кизический монастырь появился значительно позже. Основание монастыря связано с очередной эпидемией – на этот раз «трясовичной болезни», лихорадки, начавшейся в 1687 г. Митрополит Казанский Адриан, будущий Патриарх Всея Руси, принял решение поставить церковь во имя Девяти мучеников Кизических на месте встречи Седмиозерной иконы. Мученики Кизические почитались как целители от лихорадки. Большое количество больных стекалось в этот храм, многие получали исцеление. Храм стал особо почитаться в народе. Тогда было решено преобразовать приходской храм в мужскую обитель, посвящённую Пресвятой Богородице и Девяточисленным мученикам Кизическим. В числе жалованных монастырю поместий были и угодья на берегу Камы. Всего накануне реформы 1764 года, секуляризации монастырских земель, Кизическая обитель имела 56,5 десятин земли, 78 десятин леса, а также: сенных покосов – 757 копен, 2 рыбных ловли, 1 мельницу (десятина — это чуть больше гектара). Но в в результате реформы 1764 году «населенные владения» у монастыря были отобраны и переданы в полное ведение Коллегии Экономии. Остолоповские крестьяне стали государственными, или дворцовыми.
Примечательно, что наше Остолопово было не единственным. В Весьегонском уезде Тверской губернии также имелось поселение Остолопово. Но это уже исконно русские земли, не о каком богатыре Осталыпе речи тут быть не может. Заглянем в толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. В нем остолоп — это «рослый, неуклюжий и глупый человек, глупый верзила». Как видим, ничего загадочного. В писцовой книге 1628-1629 г.г. упоминается как «пустошь Осталопово, что было сельцо». По какой причине опустело поселение — неизвестно. Так, может, семья переселенцев, родом из Тверского Остолопова появилась в середине XVII века на пустоши вблизи Камы, а это было время интенсивного освоения пустующих земель Закамья, и, прельстившись плодородными землями, рыбными озерами, и фантастически красивым видом, открывавшимся с крутояра, решила основать здесь свой починок, названный в память о прежней деревне — Остолоповым?
Дальше опять из «Списка населенных мест…» Износкова. «Церковь в селе во имя Богоявления Господня, с приделами св. Николая и великомученика Георгия; построена в 1882 году Чистопольским купцом Егором (Георгием) Ивановичем Чукашевым (так в оригинале), уроженцем села Рыбная слобода. До постройки каменной церкви в селе была деревянная, тоже во имя Богоявления Господня. Эта церковь была перевезена на плоту из камского села Горицы вместе с резаным образом св. Николая. (Этот образ, величиной в полный человеческий рост, собирал после большое число богомольцев и почитался чудотворным). С 1860 года в селе существует сельское начальное училище. В весеннее время быстрота камских вод против Остолопова, заносит в реку Шенталу суда и подчалки, вывод которых на фарватер Камы доставляет жителям села заработок. 150 женщин Остолопова занимаются пряжею шерсти, из них около 50 — тканьем поясьев; это занятие заимствовали они от крестьян села Алексеевского. Кроме того двое мужчин в селе занимаются кузнечным промыслом. Село часто опустошается пожарами. Дворов в селе 292. Жителей 862 мужчин и 969 женщин, русские, православные, бывшие монастырские крестьяне. Земельный надел крестьян 4766,8 десятин (почти 4800 гектар, кто это сказал, что крестьяне до революции были малоземельные?).» Напомню, это «Список..» 1893 года. Кроме того в 1873 г. открылось земское училище, для которого на средства сельского общества и попечителя Егора Ивановича Чукашева был построен собственный дом с помещением для учительницы. В 1893 году была открыта женская школа грамоты. К началу XX века в селе функционировали пристань, казенная винная и четыре мелочные лавки. В 1967 году село Остолопово было переименовано в Речное.
Статья написана по материалам открытой печати и представляет мнение автора:
Рассказал читателям историю возникновения села Остолопово и тут же получил просьбу поделиться и историей села Саконы. Но прежде хочу извиниться за ошибку в предыдущей статье. Село Остолопово, так же как и село Саконы относилось к Алексеевской волости Лаишевского, а не Чистопольского уезда, как это ни странно. А разгадка проста. Казанскому царству Ивана Грозного в наследство от Казанского ханства Сафа-Гирея досталось административное деление, основанное на разделении по «даругам». Этим словом еще ранее у монголов обозначался чиновник, наместник на определенной местности, который давит, прикладывает печать на разрешительные документы. По местности, подконтрольной этому чиновнику, проходил тракт, соединявший соседние провинции, который впоследствии и стали называть «дорогой». Через территории Лаишевского уезда когда-то проходил древний Ногайский тракт, дорога, которая соединяла Казань со столицей Золотой Орды — Сарайчиком. Она шла из Казани примерно по нынешнему Оренбургскому тракту мимо Лаишева до исчезнувшего города Кашан, затем через Кашанский перевоз уходила на юг мимо разрушенного Булгара в сторону Сарайчика, ныне затопленного Волгоградским водохранилищем. Вот поселения, находящиеся вблизи Ногайской дороги и входили в соответствующие уезды — Лаишевский, Спасский.
Нашел только одну версию происхождения названия села, но, честно говоря, она меня не убедила. Вот, что пишет по этому поводу знакомый вам Илиодор Износков в «Списке населенных мест Казанской губернии…»: «Название села, как видно из известной рукописной заметки Н.И. Золотницкого, напоминает имя Скифского народа Саков. Церковь в селе деревянная, построена в 1865 году во имя Архистратига Михаила с приделом Василию Великому на месте деревянной же, построенной в 1700 году. Дворов 150. Жителей 384 мужчин и 497 женщин, русские, часть старообрядцы. Бывшие крепостные ротмистра Алексея Ивановича Сахарова и князя А.А. Визапурского. Поморцев-брачников — 69 мужчин, 78 женщин, безбрачников — 28 мужчин, 32 женщины, (почти четверть населения, и это только заявившие о своем состоянии в расколе, это очень много). В селе имеется церковно-приходская школа, построенная в 1849 году. 10 женщин занимается пряжею шерсти, это занятие они заимствовали от крестьян села Алексеевское. 3 мужчины заняты кирпичным производством, еще 3 мужчины — штукатурным промыслом. Земельный надел общины — 1053,5 десятины».
Рафик Насыров в своей великолепной монографии о заселении Закамья относит появление поселения на месте Сакон еще до 1646 года, даже приводит его название — Кулабердеево. Действительно, на карте Казанской губернии из атласа Вильбрехта 1800 года можно видеть на этом месте село (обозначена церковь) Кулаберда, а названии которого ясно слышатся тюркские корни. На более поздних картах можно видеть и название Архангельское — Саканы то ж. Р.Г. Насыров считает, что Кулабердеево, так же как и соседнее Остолопово, являлось вотчиной Казанского Кизического монастыря.
Однако совсем недавно мне попалась «Летопись Воскресенской церкви села Алексеевского». Надо сказать, алексеевцам повезло, что существует документ, столь подробно и полно описывающий историю появления села. Документ замечателен уже тем, что в нем содержится множество фамилий и дается описание жизнедеятельности селян, занятий различными промыслами, особенности говора, быта, и это не говоря уже о летописи самой церкви. Кроме описания самого Алексеевского в «Летописи…» рассказывается и о появлении соседних поселений, в том числе и о Саконах. Так основателем Алексеевского «был ближний боярин, губернатор Казанский и Астраханский, Петр Матвеевич Апраксин, в начале 18 века устроивший новую вотчину, село Алексеевское, – из переведенных сюда из других его вотчин крестьян, а по преданию и из беглых всякого звания людей». Чуть далее мы читаем: «Г. Апраксин, кроме села Алексеевского, основал еще два села на своей новозаводной вотчине из крестьян, переведенных им из своих вотчин, находившихся во внутренних губерниях, а именно: Лебяжье, заселенное Касимовскими крестьянами и Саконы». Управляющий новыми поместьями, приказной его, – Апраксина человек Петр Басов, «конечно не без ведома своего господина, принимал в Алексеевскую вотчину всех приходящих, кто бы они ни были, беглые ли солдаты или крестьяне, или даже каторжники, всех приютила Алексеевская вотчина, и всех обращала в крепостных Апраксинских крестьян, чем значительно увеличивалось село, а вместе с тем, увеличивалась и рабочая сила…Перечисленные выше вольные поселенцы, беглые сомнительного поведения, каторжники и разбойники, хотя и сделались крепостными крестьянами Апраксина, но от своих укоренившихся дурных привычек вдруг отстать не могли, а потому кое-как отбывая днем барщину, по ночам они занимались разбойническим промыслом, на что вотчинным управлением, почему то не обращалось должного внимания. А от этого произошло то, что эти разбойники не только сами не превратились в мирных поселян, но привлекли в свой легкий промысел многих из мирных крестьян. И сделалось, с тех пор, село Алексеевское скопом воров, разбойников и даже убийц, а потому весьма опасным для всякого проезжего, более или менее зажиточного. И этот разбойничий промысел держался здесь не менее целого столетия, то ослабевая, то усиливаясь и выдвигая из своей среды особо заметные личности, память о которых сохранилась до настоящего времени. Вот почему прадед Евгения Прохорова, моего подписчика, просившего рассказать историю появления Сакон, говорил, что они «из разбойников».
После Апраксина помещиком здешней вотчины, в том числе и Сакон, был известный владелец чугунолитейных заводов Демидов. Так в «Сборнике по истории Казанского края…» я нашел выписку, из которой следует, что Прокофий Акинфиевич Демидов, дворянин, владелец уральских литейных заводов имел в собственности вотчину на Ногайском тракте: село Новоспасское — 55 душ, село Лебяжье — 398 душ, село Алексеевское — 703 души, село Архангельское, Калубердо то ж — 306 душ. Этот документ составлен в 1773-1775 годах. Ну, и чтобы два раза не вставать, скажу, что кроме этих вотчин Прокофий Акинфиевич Демидов владел еще и поместьями по Зюрейской дороге, а это уже Чистопольский уезд. В число его вотчин входило село Воскресенское, Змиево Городище то ж, 69 душ. Это наше Змиево.
Интересна история покупки этих поместий следующим помещиком. «Поводом к покупки было следующее обстоятельство. Демидов подпал под опалу высшего правительства, по преданию здешних старожилов за то, что он продал несколько пушек с своих заводов в иную землю. Желая избавиться от опалы, Демидов обратился к Александру Игнатьичу Сахарову, любимцу (читай фавориту) Екатерины Великой, у которой он состоял камердинером в чине полковника и просил заступничества Сахарова пред Императрицей. Сахаров согласился ходатайствовать за Демидова пред Императрицей, но с тем условием, чтобы в случае успеха ходатайства его, Демидов уступил Сахарову все Алексеевское имение, если не даром, то за половинную цену. Демидов согласился на это. Сахарову действительно удалось исходатайствовать у Императрицы помилование Демидову, который за такую услугу и передал Алексеевское имение Сахарову. И с тех пор, – с 60-тых годов прошлого столетия до настоящего времени Алексеевским имением владеет род Сахаровых». Вместе с Алексеевским было выкуплены и остальные близлежащие селения, принадлежащие Демидовым, в том числе и Саконы.
«Александр Игнатьич Сахаров, был помещик очень богатый, владевший, кроме Алексеевского, многими вотчинами в разных местах. Получив здешнее имение в свое владение, Сахаров значительно увеличил оное прирезкой нескольких тысяч десятин земли от казенных крестьян села Куркула. И сделалось Алексеевское Сахаровское имение одним из лучших имений здешнего края. Будучи громадно по количеству земли (20 верст длины и ширины), оно отличалось и превосходным качеством оной. Поля в нем были черноземные; луга,– превосходные, – пойменные, со множеством значительных озер, изобилующих рыбой, которая заходила в озера во время весеннего разлива Камы и здесь оставалась. Было в имении много и хорошего леса. При таких благоприятных условиях, имение Алексеевское доставляло владельцу очень хороший доход». Не забываем, что Саконы кроме прочих окрестных сел, деревенек и хуторов входило в Сахаровское имение. Помним и о деревне Сахаровка, что до сих пор стоит на Казанском тракте.
Опять из «Летописи…» «Живя в Петербурге и получая значительные доходы с Алексеевского имения, Сахаров воображал, что крестьяне Алексеевские благоденствуют, живут привольно, тем более, что отсюда всегда ему доносилось о богатой, по крайней мере, привольной жизни здешних крестьян. А на самом деле эта жизнь была далеко не такова. У Сахарова пахотной земли было весьма много, а между тем рабочих людей было мало, так как многие крестьяне обращены были в разных мастеровых для заводов. Не легка была барщина и прежде, когда земли было меньше, а когда земли прибавилось, эта барщина сделалась решительно непосильной для наличных крестьян пахарей. Управляющий для того, чтобы барская земля была обрабатываема вся, давал во время страды такое приказание: высылать на барщину крестьян обоего пола на всю неделю, – с утра понедельника до вечера субботы, – с приказом брать для себя пищи на все это время, чтобы не терять времени на ходьбу за хлебом. В случае недостатка у кого-либо на всю неделю хлеба, бабы тихонько по ночам уходили домой, где приготовляли пищу и к утру являлись на работу. Мало того, для соблюдения экономии во времени, всем крестьянам, отправляющимся на барщину в поле, приказывалось брать с собой с серпами и косы для того, чтобы по окончании работы в поле, прямо идти в луга на сенокос, не заходя домой. А чтобы крестьяне не смели дозволять себе какого-либо опущения в работе, не вздумали отдыхать, для наблюдения за ними были назначены 50 десятников, не дававших никакой пощады рабочим и за всякую малую неисправность строго наказывавших крестьян. Все это делалось управляющим без ведома Сахарова, никогда не бывавшего в своем имении. Наконец, случайно слухи о бедственном положении здешних крестьян дошли до Сахарова, который и вынужден был приехать сюда и лично удостовериться в справедливости слухов. Приехавши сюда, Сахаров сменил управляющего и запретил целонедельные барщины, чем несколько и облегчил горькую участь здешних крестьян».
По смерти Сахарова, имение его досталось сыну его Ивану Александровичу Сахарову. «Про этого Сахарова передают, что он значительное время жил здесь в Алексеевском, что он был женат на богатой дворянке Елагиной, имевшей собственный капитал, что он имел где-то сахарный завод, бывший причиной его несчастья, – развода с женой». Действительно, на Военно-топографической карте Казанской губернии 1880 года, скан ее в районе Сакон прикреплен к статье, в восточной части села Алексеевского отмечен господский дом.
Евгений Прохоров, пересказывая воспоминания прадеда, пишет, что к Саконам течение нередко прибивало торговые суда, чем и пользовались «лихие люди». Если внимательно посмотреть на карту, видно, что возле Сакон Кама делает крутой поворот, на лоцманских картах его видно отчетливо. Здесь, в районе Сакон до заполнения Куйбышевского водохранилища всегда было отбойное течение, создававшее круговерть на воде. Представьте, что было весной, когда бешеный поток с огромной силой тащит и вертит все, что попадает на воду. Чуть выше Сакон (спасибо Сергею Павловичу Саначину, разобрались), Шенталка впадала в Каму, образуя небольшой затон. Вот в него-то и попадало все, что не смогло удержаться в русле реки — и обломки плотов, и барки и подчалки, груженые зерном, и мелкие торговые суда. Вывод их на спокойную воду — и был заработок Остолоповских и Саконских мужиков.
По поводу появления в Саконах в 1700 году церкви, тоже не очень верится. Если вы считаете, что в прежние века, миряне могли собравшись заложить храм, то это не так. В той же «Летописи…» подробно описана история строительства Алексеевской Вознесенской церкви. Для сбора средств на строительство церкви необходимо было получить благословение митрополита. И 14 июля 1912 года Петр Басов, управляющий имением, от имени своего господина Петра Матвеевича Апраксина, губернатора Казанского и Астраханского, между прочим, подал прошение Тихону, митрополиту Казанскому, о дозволении построить трехпрестольную церковь в новом селе Алексеевском, для удовлетворения духовных нужд крестьян того села, на какое прошение на другой же день, т. е. 15 июля и последовал от митрополита Тихона указ с разрешением и подробным наставлением строить деревянный храм. Этот первый храм в селе Алексеевском был вскорости выстроен и освящен не позже 1713 года. Вряд ли в соседней деревне, в Саконах, входящей в Алексеевское имение Апраксиных церковь появилась раньше. Тут я больше склонен доверять «Татарской энциклопедии «Татарика», которая сообщает: «В 1760 г. на средства А.П. Демидова (сына Прокофия Демидова) в селе построена деревянная церковь Михаила Архангела. В 1864–1865 гг. на пожертвования прихожан и средства помещика Сахарова вместо нее в стиле эклектики возведена новая деревянная церковь с приделом во имя святого Василия Великого (в 1940 г. закрыта, пришла в ветхость; разобрана в 2017 г.); при ней имелась библиотека. В начале ХХ в. в селе среди православных проживало около 200 старообрядцев поморского и федосеевского толков. С 1849 г. непродолжительное время действовала церковно-приходская школа; повторно открыта в 1884 г. по инициативе местного священника В.И. Померанцева (первый учитель – крестьянин Г.В. Досов). Школа помещалась в собственном доме, на постройку которого сельским обществом было собрано 500 руб. Первоначально обучалось 25 мальчиков, в начале ХХ в. – около 30 мальчиков и 10 девочек. В начале ХХ в. в селе функционировали ветряная мельница, 3 мелочные лавки.
История, как известно, предмет не абсолютный, в ней всегда немало допущений и предположений, несмотря на то, что исследования базируются, как правило, на первоисточниках. Но, все мы люди, всем свойственно ошибаться. К тому же оригинальные писцовые и переписные книги XVI — XVIII веков написаны так, что не всегда и до истины докопаешься. Хочу добавить, что, увы, я в Саконах ни разу не был. Проезжал, конечно, мимо, и не раз, но по селу с камерой ни разу не гулял. Так что, можете считать, что пишу не знаю о чем. Но, надеюсь, этим летом теперь непременно доберусь до этого поселения с такой удивительной судьбой. И спасибо Юрию Кондрашину за ссылку на Военно-топографическую карту Казанской губернии 1880 года:
Невероятно богата история нашего города, история нашего чистопольского уезда. Каких только фамилий не встретишь среди помещиков — владельцев земельных наделов в нашем уезде. Здесь и Суворовы, и Нейгард- Столыпины, Островские, Бутлеровы, Марковниковы, Нератовы, Якубовичи, Демидовы,Стахеевы, Челышевы. За каждой фамилией — деревни, села, починки, возведенные храмы, школы, дворянские усадьбы, липовые аллеи и последние приюты — кладбища, за каждой фамилией — судьбы людские. Простор для поисков — бесконечный. В это воскресенье эти поиски познакомили меня с историком по профессии, краеведом по призванию, Ольгой Игоревной, приехавшей из Москвы в наши края, чтобы посмотреть на места обитания своих предков. Ее Смирновы, Юшковы владели землями и крестьянами в нескольких поселениях чистопольского уезда — селе Красный Яр, Пановском выселке, деревне Утяково. Кстати, Смирновы состоят в родстве по женской линии с последним главой чистопольского земства — Александром Анатольевичем Нератовым, так что наш Чистополь для Ольги Игоревны в некотором смысле дом родной.
Ну, а для меня Красный Яр представляет особый интерес. Именно оттуда осенью 1918 года бежала со своими дочерьми Виктория Александровна Бутлерова-Габриэль. Чистополь не спрятал беглецов. В ноябре Виктория Александровна была арестована, а уже 17 декабря она и ее две дочери Татьяна 24 лет и Виктория — 22 года были расстреляны на заднем дворе особняка Чукашовых. И именно в Красный Яр адресовались открытки одного из сыновей Виктории Александровны — Бориса Ивановича Бутлерова начиная со времени учебы в Елисаветградском кавалерийском училище и вплоть до начала Первой мировой. Но о этой истории я уже писал ранее.
В начале XIX века село Красный Яр входило в вотчину Николая Ивановича Бутлерова, двоюродного брата известного химика Александра Михайловича Бутлерова. Опять пороемся в их родословной.
Николай Иванович Бутлеров, родился в 1816 году, из дворян, в 1834 — унтер-офицер, в 1841 — подпоручик, в 1843 уволен штаб-ротмистром, в 1855 определен вновь на службу поручиком, в 1857 уволен с чином штаб-ротмистра, депутат дворянства, женат на дочери коллежского асессора Аделаиде Александровне Барч, проживает в г. Казани, за ним в г. Казани деревянный дом, в сельце Бутлеровка и деревне Челны Спасского у езда 97 душ крестьян и 1413 дес. земли, в селе Красный Яр Чистопольского уезда 133 души крестьян и 1367 дес. земли, в селе Урахча Лаишевского уезда земля и крестьяне. Да, богатый помещик. Но кто же из Бутлеровых жил в Красном яре?
Да вот же, его сын: «Иван Николаевич Бутлеров, родился 26.03.1859, получил домашнее воспитание, коллежский асессор, земский начальник в Цивильском уезде, проживает в с. Красный Яр Чистопольского уезда, женат на дочери статского советника Виктории Александровне Габриэль, брак заключен 21.04.1882, за ним при селе Красный Яр Чистопольского уезда 202 десятин земли и 2100 саженей леса». Вот он, тот Бутлеров, который и жил в селе Красный Яр.
Посмотрим на семью Ивана Николаевича, а она была не маленькая: четыре сына — Николай, Борис, Юрий (Георгий) и Ростислав, и три дочери-Мария, Татьяна и Виктория. С такой большой семьей и усадьба должна быть выдающаяся. Поедем искать усадьбу Ивана Николаевича Бутлерова в село Красный Яр.
Сразу скажу, тот, «кто был никем», а потом «стал всем» не оставил от некогда богатой усадьбы камня на камне. Чем она ему не приглянулась, не знаю. Мало того, и от села Большой Красный Яр практически ничего не осталось, кроме одиноко торчащей водонапорной башни и здания склада удобрений, но это уже, скорее всего, издержки прошедшего в 60-х годах укрупнения колхозов. Сегодня на месте 112-ти дворов села Богородское, Красный Яр тож — пустырь. О богатом приходе напоминает лишь одиноко стоящая на возвышенном месте церковь Казанской иконы Божией Матери. Да цепляет взгляд полуразрушенное здание церковно-приходского училища, чудом сохранившееся неподалеку от храма. А может и не чудом. но здания православной культуры, а религия — это и есть исконная культура народа, дольше всех сопротивляются времени? А вот в начале ХХ в. в деревне располагалось волостное правление, функционировали мыловаренный завод отставного коллежского советника А.В. Чехметьева, кузница, казенная винная и 6 мелочных бакалейных лавок.
На военно-топографической карте Казанской губернии 1880 года можно отыскать примерное местонахождение «господского дома», так на карте обозначались усадьбы. Но масштаб карты, к сожалению, не позволяет точно установить ее привязку к местности. Идем наугад, руководствуясь принципом: «А где бы я поставил здесь свой дом?». Оглядываясь по сторонам, ищем самое привлекательное место. Сколько раз я восхищался просторами, открывающимися с возвышенностей и пригорков нашего уезда! Зеленеющие поля, перелески и рощи, раскинувшиеся вдоль оврагов и неглубоких балок, сухие русла рек с широкими поймами, заросшие цветущими травами, аромат которых разливается по всей округе. Родники и речушки, спрятанные в старых ветлах, тихие пруды, в которых изредка всплеснет золотой линь и снова уйдет в зеленую тину. С запада Красный Яр огибает Шенталка. Южнее села в нее, судя по карте, должна впадать небольшая речка, скорее ручей, где-то здесь и должна бы стоять дворянская усадьба. Вот уже склон оврага, внизу пруд, образованный старой плотиной. Под ногами ягодник луговой клубники. Идем вдоль склона овражка поднимаясь на небольшую возвышенность. И, о чудо, под ногами осыпь обломков кирпичей, заросшая травой. Приглядевшись, видим следы фундаментов, ямы подвалов. А вот ровная полукруглая площадка, как бы нависающая над оврагом. Вот нашелся целый кирпич, увы,без следов клеймения, не всегда же такое счастье, но явно старый, без следов скола, настоящий полнотелый кирпич. Чуть поодаль виден странный полукруглый вал, едва возвышающийся над землей и словно прорезанный в одном месте — ограда усадьбы с воротами? Нет никакого сомнения — мы на месте усадьбы Бутлеровых!
Странное ощущение, усадьбы давно нет, но ты все равно переносишься в XIX век. И можно полюбоваться картиной, открывающейся из окон несуществующей усадьбы. На юг бесконечные поля за склонами оврага, заросшего цветущей акацией. Ручей, плотина, пруд, все залито солнечным светом. На севере вдали возвышаются купола храма. Неподалеку рощица старых вязов.
Забегая вперед расскажу, что по приезде домой полез наудачу смотреть спутниковые снимки. В это невозможно поверить, но вот она, фотография усадьбы Бутлеровых, сделанная из космоса. Вернее не усадьбы, а тех остатков, которые мы нашли. Даже видна та самая полукруглая ограда усадьбы с въездными воротами точно по центру ограды.
Ну, а, Смирновых мы попытались найти на старом кладбище. И новая находка! Сразу за входной калиткой мраморный памятник с уцелевшей надписью. Пытаюсь разобрать остатки фамилии — …ович. Четко видна надпись: «От благодарного чистопольского земства», год смерти — 1910-й. Это же памятник на могиле уездного предводителя Мамадышского и Чистопольского дворянства Владимира Ивановича Якубовича! Вспоминаю, что видел фамилию Якубовича среди владельцев Красного Яра в начале XX века. Так вот где он нашел свое последнее пристанище. К сожалению, это был единственный памятник дореволюционного времени. Смирновых мы найти не смогли.
О церкви Казанской иконы Божией Матери в селе Красный Яр и о священниках, служивших в ней расскажу в отдельной публикации, эта тема стоит того. А пока еще одна случайная находка.
Достоверных сведений о предках Александра Михайловича Бутлерова нет. На их фамильном древе старший из Бутлеров — Юрий Бутлер, родившийся, видимо, в конце XVII века. Считается, что род Бутлеров имеет шотландские корни. Земли в Закамье Бутлеры, скорее всего, получили за какие-то заслуги после покорения Иваном IV, Грозным, Казанского ханства. Тогда шла интенсивная колонизация свободных земель, и многие служивые люди награждались поместьями. Но вот недавно в своих изысканиях я натолкнулся на интересное исследование Михаила Григорьевича Худякова, известного казанского историка и археолога. Назывался этот труд — «Очерки по истории Казанского ханства», Казань, 1923 год. Так вот, в своем труде Михаил Григорьевич делает вывод, что пятая по счету осада Казани удалась в 1552 году в том числе и благодаря новой тактике осаждающих — применению подкопов и закладки пороховых мин. Как известно, таким образом было проделано несколько брешей в крепостной стене и нападавшие ворвались в город. А руководил созданием минных подкопов английский инженер по фамилии Бутлер! Документов, связывающих английского инженера Бутлера с родом нашего знаменитого химика я не нашел, но, согласитесь, совпадение потрясающее! Напомню, что именно за эксперименты со взрывчатыми веществами Александр Михайлович Бутлеров еще в гимназии получил прозвище «Великий химик».
В предыдущей публикации о наших Бутлеровых я рассказывал в том числе и о Юрии (Георгии) Бутлерове, том самом, чье детство прошло в усадьбе в Красном Яру. В публикации Билярского музея-заповедника нашел дополнение к его истории. «Во время Гражданской войны Георгий Бутлеров воевал в частях атамана Шкуро, потом в Добровольческой армии, эмигрировал из Новороссийска в марте 1920 года. Первое время проживал в Константинополе, потом – во Франции. В начале 1930 годов по призыву бывшего белого генерала Беляева братья Бутлеровы оказались в Парагвае. Костяк армии из латиноамериканской страны составляли белые офицеры. В ходе Чакской войны с соседней Боливией они помогли отстоять независимость этой страны и активно участвовали в формировании ее армии, да и всей инфраструктуры страны… В честь русских военных в Асунсьоне – столицы Парагвая – названо с десяток улиц, в том числе есть улица в честь Георгия Бутлерова».
Наверное, это еще один повод гордиться нашим земляком.
Статья написана по материалам открытой печати и выражает мнение автора:
Эта церковь, да, пожалуй, здание церковно-приходского училища — это все, что осталось от села Большой Красный Яр. В 1904 году в приходе было 435 дворов, количество прихожан — 1310 мужчин и 1363 женщины.
Церковь была построена в 1795 г. на месте старого деревянного обветшавшего храма. Архитектор неизвестен. Считается, что построена на средства прихожан, но, скорее всего, среди обычных прихожан были и очень богатые прихожане, не пожелавшие оставить свои фамилии для потомков. Я нашел записи, что в конце XVIII века основными помещиками села Красный Яр были штык-юнкер Аристов Николай Львович и Смирнов Михаил Яковлевич, уездный секретарь, из дворян. Вот этот-то Смирнов и был пра-пра-пра-прадедом моей воскресной спутницы. И я почти уверен, что именно они и были главными жертвователями на постройку храма. Поначалу церковь была двухпрестольная, в левом приделе размещался престол во имя Святителя Дмитрия Ростовского.
В 1887–1888 гг. по проекту известного казанского архитектора Льва Казимировича Хрщоновича на средства местного помещика, коллежского советника Петра Васильевича Терпигорова пристроен правый придел во имя святой мученицы Иулии Карфагенской. Нелишне напомнить, что в это же время Львом Казимировичем было спроектировано и велось строительство кирпичного здание Чистопольского духовного училища, а также велась перестройка Змиевской церкви — храма Воскресения Христова, Воскресенской церкви.
Главный храм был холодным, приделы — теплые. Ограда каменная, с железной решеткой. Иконостас в главном храме трехъярусный, в правом приделе — двухъярусный, в левом — одноярусный. Чтимая икона — Казанской Божией Матери.
О этой иконе нужно сказать особо. Икона Казанской Божией Матери была старинной иконописи, в серебряной вызолоченной ризе, украшенной жемчугом и камнями, стоимостью 500 рублей. Этот образ, по народному преданию, с самого основания храма в селе почитается всеми за чудотворный.
В 1866 г. приходским священником М.Н. Гайевым открыто училище (в 1877 г. перешло в ведение земства). Для него на средства церковно-приходского попечительства и земства построено собственное здание с классом, прихожей и комнатой для учительницы. В 1906 году в школе обучалось 65 мальчиков и 32 девочки, С 1887 г. попечительницей училища была землевладелица О.Н. Булыгина. (Именно на нее был составлен донос волостного правления в октябре 1918 года, смотрите мою статью о Бутлеровых)
В 1877 года священником в приход Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда назначается о. Иоанн Анонимов, выпускник Казанской духовной семинарии.
В марте 1898 года. по обязанности духовника объезжая первый благочинный округ Чистопольского уезда, о. Иоанн жестоко простудился, слег в постель и уже почти не вставал с нее до самой смерти. По смерти о. Иоанна остались сиротами 8 его сыновей и 4 дочери. На отпевании присутствовали предводитель дворянства Чистопольского уезда В.И. Якубович, местный земский начальник А.П. Горталов, О.Н. Булыгина, Н.А. Марковникова, Созонова, а также родственники покойного. По смерти мужа, вдова его Евлалия Александровна получила в 1901 г. из похоронной кассы 67 р. 50к. Капитал притча составлял 1311 рублей. Долгов разным людям после смерти о. Иоанна осталось около 700 рублей — в бедности жила семья всеми уважаемого священника. Один из сыновей о. Иоанна, Александр, по окончании Казанской духовной семинарии работал в нашем Чистопольском духовном училище, а в 1910 году был рукоположен во священника Троицкой церкви села Чистопольские выселки. Другой сын о. Иоанна, Николай также закончил Казанскую семинарию и в 1908 году получил назначение в приход Воскресенской церкви села Старое Иванаево. ( Для меня это тоже открытие — не знал, что в Старом Иванаево была церковь).
Следующим священником прихода был назначен Виктор Ястребов. Его судьба сложилась более трагично.
Из доноса:
О. Виктор был арестован 1 декабря 1918 года Чистопольской ЧК по обвинению в шпионаже и контрреволюционной агитации против Советской власти. Вместе с ним были арестованы его теща Анонимова, вдова умершего о. Иоанна, диакон Григорий Козлов, его жена Елена Козлова, а также жители деревни Николаевка Алексей и Иван Тепляковы и Терентий Бакунин.
Прошения прихожан об освобождении о. Виктора и диакона Григория Козлова действия, конечно, не возымели. 17 декабря Чистопольская ЧК выносит приговор — ВМН, расстрел. Сведения о месте расстрела разнятся. Возможно Виктора Петровича Ястребова и Григория Козлова расстреляли в тот же день, 17 декабря, что и Викторию Александровну Бутлерову-Габриэль с двумя дочерьми — Татьяной и Викторией.
В 30-е годы, как и в других селах, притеснения, а затем и гонения на верующих усилились.
Поначалу был введен запрет на колокольный звон, который мешал учебному процессу в школах, затем молчащие колокола за ненадобностью растаскивались «безбожниками» для общественных нужд. Вскорости в церкви начинали привозить картофель, в церковь Красного Яра свозили на хранение зерно. При этом церковный приход облагали непомерными налогами. Дальше церковь закрывалась уже по просьбе трудящихся. Сохранился любопытный документ, «челобитная» прихожан села Большой Красный Яр.
«В ТатЦИК, Казань, Кремль. Верующих и Приходского совета церкви села Большого Красного Яра Алексеевского района, просьба.
Ввиду различных недоразумений по вопросам культа верующие и Приходской совет обращаются в ТЦИК со следующим:
Как церковь, так и служители культа обложены слишком непосильными налогами, например, страховка с церкви в прошлом 29-30 гг. была в сумме 40 руб., ныне же уплачено за особый квартал 63 р. 20 к. и за 30-31гг. 252 р. 70 к., кроме всех уплаченных налогов еще сельсовет требует на тракторизацию: от священника — 250 руб. и псаломщика — 150 руб., что согласно директивам Наркомфина является ненормальным. Кроме того, уплачено поземельной ренты 39 руб. 42 коп., налога со строений уплачено 118 руб. 30 коп., а всего — 473 руб. 62 коп. Налоги разные со священника, всего 818 руб., при самой максимальной получаемости от Прихода 600 руб., с псаломщика 482 р. 75 к. при получаемости 300 р. Откуда же берутся деньги? Ясно, что все платит община верующих, что ложится тяжелым бременем. Местные органы власти на наши просьбы о снижении не обращают внимания. Если усиленными налогами хотят закрыть церковь, то от этого религия здесь не пострадает, молиться Богу все равно будут.
На членов Приходского совета смотрят как на контрреволюционеров, но ведь они выбираются из среды верующих, где есть и единоличники, и колхозники, и середняки, и бедняки. 24-25 прошлого декабря явился в церковь некто Т. Бударин, назвавшись финагентом, сделал обыск в церкви, у церковного старосты, у псаломщика и, не найдя ничего, наложил штраф в сумме 100 рублей, приказав церковному старосте Федору Настявину в 24 часа уплатить. Церковный совет от уплаты отказался и подал заявление в райисполком, где вопрос и закрылся. В подобных нападках большинство верующих от членства в Приходском совете отказываются. При взимании налогов предупреждают, что, мол, будет опись имущества, это же противоречит директивам союзного Наркомфина.
На основании всего вышеизложенного верующие и Приходской совет ходатайствуют перед ТЦИК дать справедливые указания и разрешения».
Идейных вдохновителей гонений на православные приходы долго искать не приходится. Достаточно взглянуть на известное письмо Владимира Ильича членам Политбюро в период изъятия церковных ценностей в 1922 году. Напомню, что 1922 год — один из самых голодных годов в Поволжье. «Строго секретно. Просьба ни в каком случае копии не снимать. Я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. Именно теперь, и только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем и поэтому должны провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией и не останавливаться перед подавлением какого угодно сопротивления. Чем большее число представителей реакционного духовенства удастся нам при этом расстрелять, тем лучше».
Когда в 1938 году волна закрытий докатилась и до Красного Яра, для обоснования закрытия церкви был составлен акт осмотра здания, из которого следовало, что «…здание сейчас используется под засыпку хлеба, община распалась и ремонт произвести не в состоянии. Комиссия считает: в связи с бесхозяйственным содержанием церковь закрыть, обязав сельсовет произвести соответствующий ремонт, церковное имущество передать соответствующим организациям».
Большекрасноярская церковь была закрыта постановлением Президиума Алексеевского РИК от 27 июля 1938 года, наряду с Новоспасской и Березовогривской церквями.
То что осталось сегодня — на фотографиях. Мощь здания и красота постройки и сегодня поражают редких посетителей. Церковь весьма необычна. Во-первых — здание не симметрично, что бывает чрезвычайно редко в православных церквях. Левый престол Святителя Дмитрия Ростовского мы искали долго, пока не догадались, что он был размещен в основном помещении церкви. Необычен и правый придел, освященный во имя святой мученицы Иулии Карфагенской. Так решетка окна, возле которой сохранилась ниша для главной иконы придела, изготовлена в виде православного креста. Еще необычно, что в этом приделе не было настенной росписи, впрочем, как и в главном приделе храма, где размещался престол Казанской иконы Божией Матери. Здесь были расписаны только четыре угловые полуколонны, поддерживающие главный купол церкви. Зато как расписаны! И сегодня еще проступают лики святых сквозь наслоения веков. Поражают и останки трехъярусного иконостаса. Он начинается высоко, почти под куполом. Сколько же икон размещалось на нем?
Все приделы и притвор перекрыты кирпичными сводами, что также встречается только в старых храмах. Когда-то они были закрыты от непогоды металлической кровлей, уложенной на деревянную стропильную систему. Слева из небольшого помещеньица на купол притвора, под несуществующую крышу, ведет узенькая кирпичная лестница. Купол еще крепкий, по нему можно пройти, за исключением левой обвалившейся части. Двести с лишним лет здание храма сопротивляется времени, и вот уже больше ста лет ждет своего хозяина. Найдет ли?
Статья написана по материалам открытой печати и выражает мнение автора:
#нашчистополь #экскурсиипочистополю #экскурсиипоокрестностям
Есть на границе Алексеевского и Спасского районов село Базяково. Расположено оно на старой Ногайской дороге по пути в древнюю столицу Волжской Булгарии. Сегодня через Базяково проходит та же трасса на Болгары, поэтому многие из вас его проезжали, и, скорее всего, не раз видели церковь, стоящую на окраине села. Если вы по лени или занятости своей не подъезжали к этой церкви, то могу вас уверить — зря.
Село это находится практически в центре территории некогда могущественного многонаселенного государства — Волжской Булгарии, и вместе ней пережило все радости расцвета и горе разорения. После завоевательных походов Ивана Грозного, поселение, как и вся эта область, по-видимому, опустело. Новая история села началась в середине XVII века с освоением пустоши новыми хозяевами. Об этом нам рассказывает известный специалист по расселению Западного Закамья Рафик Гумерович Насыров. Название села, как это часто бывает, говорит о первых переселенцах на опустевшие земли. А первыми были два брата, служивые татары, выходцы из дер. Альдербыш Алатской дороги Базячка и Санайка Терегуловы. Известно, что они еще до 1648 года перевезли свои семьи на выделенные им за службу новому царю земли на берегах удивительно красивой речки Актай. Но что-то не заладилось на новой земле — дети Базяка Терегулова после смерти отца вернулась обратно в родную деревню, сдав свои земли внаем другим служилым татарам своей деревни. История сохранила их имена — Еналейка и Умячка, а прозывать их стали Базяковыми. Поселение же с тех пор получило название Базяково — Ахтачи, или Базяково на Актае. Но русская экспансия на восток вскоре согнала и этих хозяев с насиженных мест — земли выкупил стольник Леонтий Михайлович Есипов. А земли были немалые — 183, 3 четей, это почти 100 гектаров, по нашему. С тех пор население Базяково стало русским. В начале XVIII в значилась как владение помещика П. И. Есипова. А по ревизским сказкам к 1770-му году эти земли числились уже за крупными казанскими землевладельцами — братьями Мельгуновыми. Алексей Васильевич владел 169 душами, Николай Васильевич — 164, Михаил Васильевич -9 . Всего в селе проживало жителей мужского пола — 375, женского пола — 370, дворов в селе — 164, не маленькое по тем временам село. Почему село, потому что к этому времени в селе уже стояла Тихвинско-Богородицкая церковь. Каменную церковь построили в 1761 году на средства прихожан и помещиков А.В. и М.В. Мельгуновых и освятили в честь Тихвинской иконы Божией Матери. Церковь двухпрестольная с колокольней и приделом Нерукотворного образа Спасителя. Находившаяся в ней местночтимая икона Тихвинской Божией Матери почиталась как чудотворная. Как вспоминают жители села, икона стояла в главном иконостасе, была богато украшена, в дорогом киоте, на иконе были золотые бусы, на венце — бисерки. При церкви имелась библиотека. 26 июня, (9 июля), в день празднования иконы, в Базяково стекались толпы желающих прикоснуться к иконе. Считается, что икона помогает рождению детей, наверное, главному предназначению женщины. В и-нете можно найти сведения, что в 1930-тых годах, во времена безбожия, церковь закрыта, икона утеряна, храм бездействует. Сразу скажу, это неправда. Местные прихожане, как могли, восстановили храм, в храме вновь проходят службы. Мало того, нашлась и та самая чудотворная Тихвинская икона, правда она хранится не в храме, а в одном из домов, видимо из боязни утраты, или воровства, но ее приносят в храм на богослужения. Нам ее не показали, но поверить можно — в храме находятся еще две не менее древние иконы, подаренные прихожанами. Лики святых едва-едва проявляются на древних темных досках — зрелище впечатляющее. Сама церковь, конечно, в печальном состоянии. Нужны, нет, не спонсоры, нужны меценаты, люди,заинтересованные в сохранении православной культуры, православных традиций и православной веры. Жители села точно знают, рано или поздно такие найдутся, а пока, как могут, сами не допускают окончательного разрушения храма. Надо сказать, что одна из выставленных в храме икон закрывала сквозную дыру в крыше трапезной, сейчас икону можно видеть на своем месте.
До 1861 года жители Базяково относились к категории помещичьих крестьян, занимались земледелием, разведением скота и плотничным промыслом. В 1874 г. открыто земское училище (одноклассное, располагалось в отдельном доме), в котором обучалось 30 мальчиков и 60 девочек. В начале ХХ в. в селе функционировали богадельня, 5 мельниц, 2 кузницы, 3 мелочные бакалейные лавки. В день празднования иконы Тихвинской Божией Матери — 26 июня, проходила ежегодная ярмарка. Перед Октябрьской революцией в селе проживало почти 1200 человек.
Теперь переходим к мистике.
Обходя церковь, мы едва не наступили на странные плиты. Три массивные чугунные плиты, что лежали у нас под ногами, явно когда-то покрывали чье-то погребение. К счастью, плиты оказались в прекрасной сохранности, надписи на них читались без труда. Вот эта эпитафия была отлита на могильной плите: «На сем месте погребено тело губернского секретаря Лаишевского уездного училища почетного смотрителя Петра Андреевича Грубера. Родился 1793 года января 20 дня, скончался 1826 года мая 12 дня. Всей жизни его было 33 года 3 месяца 23 дня. Мир праху твоему». Соседняя плита когда-то покрывала погребение землевладелицы Парасковеи Владимировны Грубер, скончавшейся 6 августа 1876 года. Под третьей плитой был похоронен прах младенца Нины Грубер, скончавшейся 28 июня 1880 года в возрасте 9-и месяцев от рождения. Плита была изготовлена родителями умершей девочки, на плите была надпись: «Спи дитя наше возлюбленное». Представилось, сколько труда было затрачено на изготовление опоки — формы для отливок, на саму отливку и обработку плит. Оказалось, неподалеку от церкви находилось старое сельское кладбище, теперь уже разоренное, и на нем отыскалось фамильное погребение семьи Грубер. До нас дошли только эти три плиты, которые перенесли к самой церкви, от греха подальше, остальные были растащены.
Самая странная находка была на первой плите. В верхней части плиты был ясно виден равносторонний Мальтийский крест, в отличие от двух других плит, на которых был отлит крест православный. А под эпитафией красовался отлитый в металле рельефный череп с двумя перекрещивающимися костями. Какой-то жутью явственно веяло от этого надгробия. И-нет рассказывает нам, что этот символ называется «Адамова голова», в христианстве он был особо почитаем и служил олицетворением бесстрашия и презрения к смерти — «из праха вышли в прах и обратимся», а также возможности спасения в Царстве Божием. Так-то оно так, но поднимите руку, кто видел когда-нибудь на православном кладбище могилу с такой символикой? Я тоже не видел. Рафаил Хамитович Хисамов предположил, что, возможно, покойный был протестантом, тогда вполне вероятно появление черепа с перекрещенными костями на могильном памятнике. Но мальтийский крест, откуда он взялся?
Разгадка символов на могильной плите — чуть позже. Пока ваши варианты? Кстати, есть еще другая версия появления названия поселения — Базяково. Кто хорошо знает татарский, тот может сам ее предложить. Подсказка здесь в татарском слове Баҗа:
#нашчистополь #экскурсиипочистополю #экскурсиипоокрестностям
В первой части я рассказывал о интереснейшей находке возле Тихвинско-Богородицкой церкви древнего села Базяково. Рядом со стенами храма прямо на земле лежали три надгробия, три литые чугунные плиты с ясно видимыми эпитафиями. Одну из плит, самую старую, в верхней части украшал мальтийский крест, а в нижней части красовался череп с двумя перекрещивающимися костями. И-нет поведал, что этот, жуткий с виду, барельеф называется «Адамова голова» и характерен для христианских погребений, но в эту версию, я как-то не поверил. Ну, не встречались мне такие знаки на могилах.
Двое суток, проведенных в и-нете дали мне другую версию.
Отец покойного, Андрей Егорович Грубер в октябре 1793 году был введен во дворянство и вписан в третью часть дворянской родословной книги Казанской губернии. Третья часть — вносят дворянство бюрократическое, приобретенное чином гражданской службы или пожалованием ордена. За какие заслуги, кем был один из патриархов семейства Груберов?
Замечательный ресурс — генеалогический форум ВГФ, дает нам следующие сведения:
Грубер Андрей Егорович, родился 14 ноября 1744 года. Геолог, маркшейдер, 16 ноября 1775 года послан Канцелярией Главного заводов правления на Турьинские рудники М. М. Походяшина для выяснения, «действительно ли там скрывают серебряные руды». Сделал, возможно, первое описание Фроловского, Васильевского, Суходойского и Ольховского рудников, составил их планы. Был смотрителем Екатеринбургских школ. Им закончено составление атласа горных заводов Урала, начатого Ф. И. Грамматчиковым . В 1780—1781 годах — глава чертежной комиссии при главном заводоуправлении, стоял во главе работ по описанию Пермского наместничества. В 1781—1785 годах — губернский землемер наместничества, капитан. В 1781 году снял первый генеральный план Егошихинского медеплавильного завода, который стал топографической основой последующих планов Перми. В 1784 году — советник для горных дел и наблюдения за заводами Экспедиции горных дел Пермской губернской казённой палате , коллежский асессор в ранге майора пехоты, женат на Фёкле Степановне Сушиной, проживал в Перми, в 1787 году ему принадлежал дом на Дворянской улице. Управляющий Кыштымскими заводами Н. Н. Демидова-старшего . С января 1799 года по 24 апреля 1800 года консультировал Н. Н. Демидова-младшего по вопросам управления Нижнетагильскими заводами, с сентября 1799 года по 1800-е годы был главным управляющим заводами, занимался гидротехникой. работал над проведением канала от реки Черной в Черноисточинский пруд. Был знаком с А. Ф. Турчаниновым. Вот этот гражданский чин — коллежский асессор и дал право Андрею Егоровичу быть вписанному в третью часть Родословной книги дворянства Казанской губернии. С 1976 года — надворный советник. Умер 24 июня 1806 года. Похоронен на кладбище Кизического монастыря города Казани.
Таинственная могильная плита, та, что на фотографии, покрывала когда-то могилу его младшего сына — Петра Андреевича Грубера. Петр Андреевич родился 20 января 1793 года и также был внесен в Родословную книгу дворянства Казанской губернии, но в ее вторую часть Бархатной книги, ту, которая предоставляет дворянское звание за воинские заслуги. До 1845 года любой офицерский чин приносил потомственное дворянское звание. Где мог отличиться молодой человек в начале XIX века (не забываем, что Петр Грубер умер в возрасте Христа, в 33 года)- конечно же на наполеоновских войнах. Стоит покопаться в истории славных битв и, что особенно важно, в полковых знаках частей, принимавших участие в войне с Бонапартом. Поиск принес удачу — знаменитый Александрийский гусарский полк, отличившийся в битве при Кацбахе имел полковой знак в виде Мальтийского креста и «Адамовой головы» — черепа с перекрещенными костями. Это те самые таинственные символы, что мы видим на могильной плите. Википедия подсказывает: «Сражение при Кацбахе — битва 14 августа 1813 года на реке Кацбах французской армии под командованием маршала Макдональда и русско-прусской Силезской армией под началом прусского генерала Блюхера». В тот день шел проливной дождь. Артиллерия не смогла подойти близко к месту сражения, и победу обеспечило холодное оружие — практически штыковой бой. Армия Блюхера атаковала войска Макдональда, переправившиеся через речку Кацбах под городом Лигницем, и во встречном бою отбросила их за реку. В последовавшем затем трёхдневном преследовании до границ Саксонии французы понесли большие потери пленными. В кавалерийской атаке особенно отличились драгуны Каргопольского и гусары Александрийского полков, дислоцированные в лесном массиве. Они нанесли неожиданный удар и опрокинули передовые отряды неприятеля. Представляете, какая была кавалерийская рубка! За отличие под Кацбахом полку пожалованы знаки на кивера с надписью «За отличие 14 августа 1813 года». Через год очередное награждение — 8 февраля за сражение при Бриенн-ле-Шато полк награжден 22 георгиевскими трубами с надписью « Александрийский гусарский полк 8 февраля 1814 года». За свою славную историю полк входил в различные боевые соединения, назывался и драгунским, но одно было неизменным — цвет обмундирования. В 1796 году полк по решению императора Павла I получил свою черную с серебром гусарскую форму, а вместе с ней прозвище «черные гусары».
Мало сомнений в том, что младший сын, родившийся в семье дворянина Алексея Егоровича Грубера, избрал местом приложения своих сил воинскую службу. В те времена служение Отечеству ( вот не боюсь писать это слово с большой буквы), для дворянских юношей, как правило, начиналось именно с воинской службы. А в ходе наполеоновских войн молодой человек вполне мог дослужиться хотя бы до младшего офицерского звания — корнета, дававшего право быть пожалованным дворянским титулом. Я не нашел полных списков младшего офицерского состава Александрийского гусарского полка начала XIX века, в сети есть лишь более поздний перечень офицеров, но характерные знаки отличия гусар этого полка, отлитые в металле на могильной плите, свидетельствуют о неизгладимых воспоминаниях, оставивших в след не только во время жизни, но и после смерти Петра Андреевича Грубера.
Стоит добавить, что в разное время в Александрийском гусарском полку служили и Константин Батюшков, и Николай Гумилев, и Михаил Булгаков, и будущий фельдмаршал Карл Густав Эмиль Маннергейм. Цесаревич Алексей, наследник императорского трона, расстрелянный большевиками в подвале ипатьевского дома, был зачислен в списки Александрийского гусарского полка. Роясь в списках личного состава полка, я неожиданно наткнулся на знакомое имя — Николай Чегодаев. Чегодаевы были крупными землевладельцами в Казанской губернии, владели землями в Спасском и Чистопольском уездах. В самом Чистополе Чегодаевым принадлежал дом, о, чудо!, сохранившийся доныне.
Второе надгробие — Прасковьи Владимировны Грубер, в девичестве — Арбузовой. Она сменила фамилию, после того, как вышла замуж за племянника Петра Андреевича Грубера. Скончалась в возрасте 32 лет, в 1878 году. Дальние родственника Прасковьи Арбузовой-Грубер – известные химики Арбузовы, тоже выходцы из этих мест. Им принадлежали земли в Сосновке и селе Баран, его второе название — Арбузов Баран.
Под третьей плитой покоилась Нина Грубер, дочь Петра Всеволодовича Грубера, племянника нашего предполагаемого гусара, скончавшаяся в возрасте 9 месяцев.
В заключение можно еще дать ссылку на описание злоключений еще одного маркшейдера Грубера, по всей вероятности сына Алексея Егоровича, который будучи посланным во Владимирскую губернию для надзора за добычей алебастра попал в неприятную ситуацию, созданную бюрократическим аппаратом Российской империи. Если коротко, то весной 1821 года Министерство Финансов приказало Горному начальнику Богославских заводов Пермской губернии Фортунатову командировать в Муромский уезд горного чиновника для «учреждения разработки алебастра»: «Чиновник сей по прибытии на место должен будет представить свои предложения на рассмотрение Московскому горному правлению, в ведомости которой он будет состоять». Чиновником этим оказался Горный инженер 9 класса маркшейдер Грубер. Он получил подъемные, дорожные и прибыл в Муром для проведения работ. Составил надзорные листы, схемы штолен и рисунки укреплений для безопасной добычи алебастра. Но Министерство Финансов по недосмотру не компенсировало Управлению Богославских заводов понесенные расходы, и вскоре Управление стало требовать от маркшейдера Грубера уплаты «казенного долга». Бюрократическая канитель настолько затянулась, что отчаявшийся горный чиновник ответил, что «к уплате означенного долга у него не только наличных денег, но и даже и имущества, кроме необходимо нужных вещей не имеется, и что заплатит весь долг заводам в нынешнем 1822 году из доходов своего недвижимого имения в Казанской губернии в Спасском уезде в селе Базякове, где он владел 74 душами» https://www.chud.su/index.php/23-uncategorised/130-de.
Вот такова история трех сохранившихся могильных плит из некогда обширного некрополя Груберов в селе Базяково:
Море доброжелательности, человечности и открытости, море нежности и море страстей, море спокойствия и море юмора, море счастья и море сострадания, море сочувствия и море любви к людям заполнило вчера огромную поляну на булдырском берегу реки Прость. Вчера открылся второй фестиваль бардовской песни под названием «Булдырь Фест- 23»
Вчера гостями булдырского берега стали авторы-исполнители, приехавшие из многих городов России — Москва и Новосибирск, Павлово и Ижевск, Саров и Елабуга, Ульяновск и Чебоксары, Набережные челны и Йошкар-Ола, Казань и, конечно, же Чистополь, все, все флаги в гости были к нам. И приехали не просто рядовые исполнители, хотя в бардовской песне рядовых исполнителей не бывает, приехали люди, за плечами и рюкзаками которых есть и Грушинский фестиваль, и не один, люди, уже получившие известность в своей профессиональной среде и полюбившиеся слушателям. Так что можно и нужно сказать, что вчера в Булдыре открылся фестиваль авторской песни всероссийского масштаба!
Услышали мы и песни мэтров авторской песни — Окуджавы, Высоцкого, Визбора, недавно ушедшего от нас Леонида Сергеева, и, конечно же своё, авторское. Не скрою, многих, почти всех исполнителей я слышал впервые, но некоторые их песни были мне знакомы, они есть в репертуаре и Ларисы Лихачевой и Алексея Артемьева.
Что сказать про настроение? Беззаботность и благодушие, радость от новой встречи и веселье царили вчера на поляне. Все, буквально все работало на публику. И песни, звучащие со сцены, и окружающая природа, постепенно погружающаяся в свое ночное сонное состояние, и «синий час» — любимое время фотографов, когда темнеющее небо, ярко-желтая луга, мерцающая гладь воды предоставляют возможность создавать шедевры фотографии. А здесь, на поляне, вчера было еще и море эмоций, море аплодисментов, и море счастливых и радостных лиц. И это чувство единения — оно прекрасно и неповторимо! И не забудьте, что со сцены вчера извергались просто фонтаны любви и доброты!
Отдельно нужно, просто необходимо сказать о человеке, который создал и подарил этот праздник — о Тагире Мухаметове. О его авторитете в мире бардовской песни, кроме его песен, конечно, говорит и то, что практически каждый выходящий на сцену говорил: «Спасибо Тагиру, что он меня пригласил — и вот я здесь, перед вами, и очень рад новой встрече!» Поразительно с какой обстоятельностью было продумано проведение фестиваля — от указательных знаков до березовых скамеек для слушателей, все было сделано для удобства исполнителей и слушателей. И, практически каждый выступавший, отмечал великолепный звук и прекрасную работу операторов. Сказать спасибо Тагиру — этого, конечно, мало, он просто гигант, он подарил незабываемый праздник наслаждения, праздник единения с песней, с исполнителями и со слушателями, все мы жили вчера одними эмоциями, эмоциями праздника души. Тагир, кстати, вчера тоже спел несколько своих песен, а по моей просьбе исполнил и свою «Провинцию», которую я очень люблю и которую считаю просто шедевром в мире бардовской песни.
После презентации участников, которая закончилась уже при свете луны, некоторые зрители потянулись к машинам. Самые голодные пошли жарить своих куриц, самые заботливые пошли усаживать или поднимать с горшков своих детей. (Эти строки мне навеяло стихотворение одного из участников. Его, стихотворение, можно было бы назвать так: «Разговор двух воспитанников детского сада, произошедший во время утреннего сидения на горшках»), самые сонные уехали наслаждаться впечатлениями, лежа в своих кроватях. И зря. Дальше началось самое интересное, самое вкусное. Претенденты на звания лауреатов показали отточенное во многих выступлениях мастерство владения аудиторией, показали все богатство, все многожанровость своего репертуара. Слушатели то падали с импровизированных скамеек от хохота, то грустили вместе с исполнителями.
Вот уже кажется «окончен бал, погасли свечи», завершилась программа первого дня, уже и ряды зрителей поредели, но на сцену все выходили и выходили исполнители, а оставшиеся фанаты кричали им: «Браво!, еще, еще!» Начало светать, концерт плавно перетек к палаткам, ведь настоящих бардов остановить, все равно, что остановить мчащийся на всех парах поезд.
В общем, вчера было очень душевно. Сегодня, кстати, продолжение… Продолжение фотогалереи тоже будет:
Рассказывать о фестивале авторской песни — затея, конечно, достаточно бессмысленная. Каким словами можно передать океан любви, изливающийся со сцены на зрителей, на огромную поляну, занятую палатками и машинами, заполнивший и Прость, и достигший, наверное. и противоположного берега Камы? Или, как описать такие разные, но такие интереснейшие, такие живые голоса, как рассказать об удивительном обаянии мэтров этого жанра?
Немного, конечно, жаль, что наши исполнители не вошли в число лауреатов, но вы бы видели и слышали этих лауреатов! Как пела Наиля Коржак из Ульяновска! Безупречная дикция, я, вживую, давно такой не встречал, безупречный вокал, виртуозное владение инструментом, это просто фантастика, как звучала гитара в ее руках!
А какие были дуэты! Можете себе представить блюз в исполнении гитары и аккордеона? Это Юрий Смоленцев и Елена Максимова из Йошкар-Олы, это море обаяния! Они же забацали и такой убойный рок-н-рол! (Лариса, ты все пропустила!). Казанский «семейный» дуэт «Два берега» Сергея Сушкова и Натальи Покаржевской просто потрясал удивительной музыкальностью звучания своих голосов. Это милое, конечно, наигранное, но такое естественное, ворчание друг на друга при общении со зрителями. Вот, абсолютные профессионалы во всем!
И еще вчера на фестивале произошло чудо! Мало того, что Юрий Ефимов из Новосибирска! выступал перед двумя микрофонами, так он еще и настроил их в разном ключе, с разными уровнями эха и реверберации, с разными частотными характеристиками, (я ж, все-таки, радиоинженер по образованию). Причем, заняло все это несколько больше времени, чем длилось само выступление. Но когда Юрий запел, все мы поняли, что время на настройку звука было потрачено не зря. Как он играл! А еще круче он пел! Я такого драйва, несущегося со сцены, таких эмоций, летящих в зрителей, такой энергетики, от которой прожектора можно было зажигать, я, просто, никогда не слышал. В это трудно поверить (какая стандартная фраза), но во время его выступления полетели ТРИ!!! микрофона, не выдержав его напора, их пришлось менять один за другим. Это был единственный случай на фестивале, когда техника подвела, но он случился именно с ним! Его выступление — что-то запредельно невероятное! «Еще и еще», требовали зрители.
А, вот если бы был приз зрительских симпатий, с большой долей вероятности, его получил бы Александр Шарыгин из Павлово. Его общение со зрителями, берет тебя в плен в первую же секунду! Сашиного обаяния хватит на зал любой величины, его юмор неподражаем, его хочется слушать снова и снова. В его песнях можно услышать то ностальгию по пролетевшей, просвистевшей юности, а то вдруг услышать балладу, спетую от первого лица, кого-бы вы думали? Ни за что не догадаетесь! Он спел песню пельменя. Да, да , да, в воздухе явственно проносился его насыщенный, крепкий аромат, так ярко, так выпукло Саша воспевал рубленый фарш, приправленный лучком, аккуратно, бережно завернутый в тонко раскатанное нежное тесто. Сваренный в крутом кипятке, нежащийся в озере домашней сметанки, лежал пельмень на тарелке, как вдруг страшный враг в лице столовой вилки попытался напасть на нашего бедного пельменя. В общем, в конце песни оказалось, что этот кулинарный кошмар просто приснился самому автору.
Но, меня больше всего пленил, обаял, очаровал голос Анны Юрьевой из Сарова. И сама она очень красивая молодая женщина, но голос! Его тембр, с легкой, едва заметной, вдруг появляющейся иногда хрипотцой, взмывающий вверх, и тут же стекающий к низким нотам. А репертуар! Он же бесконечно разнообразен! Никогда бы не подумал, что буду с таким наслаждением слушать известные «Старинные часы» в исполнении не Аллы Борисовны. Как можно на гитаре сыграть такой ритм, где явственно слышится и четкий метроном часов, и одновременно изумительная мелодия песни? Как такое можно исполнить? Но это было, было! Счастливы жители Сарова, я завидую их возможности слушать Анну гораздо чаще, чем мы.
Не смогу перечислить и рассказать о всех исполнителях. Поверьте, каждому из них можно посвятить изрядное количества уважительных строк, но они все вместе составили классный коллектив, изумительный ансамбль авторской песни, два дня радовавший нас, зрителей, и, мне почему-то кажется, доставлявший немало удовольствия и им самим.
Что до меня, то кроме бесконечного счастья общения с прекрасными музыкантами, исполнителями авторских песен, собравшимися, чтобы показать нам свое искусство, и, с не менее прекрасными зрителями, составившими одно большое целое с фестивалем, и, надо сказать, неплохо, я обрел на фестивале новых друзей, чьим творчеством я восхищаюсь.
На фестивале не были присвоены места, разделять мастерство по ранжиру — плохая затея, на фестивале были лауреаты и дипломанты, и это правильно. Нельзя выбрать победителя фестиваля, вернее, победителей было много, но ими были мы, зрители. Те, которым посчастливилось увидеть фантастически красивое музыкальное зрелище! Спасибо всем участникам, спасибо всем организаторам и помощникам, операторам, (Саша, привет!), а их, наверняка было много, спасибо спонсорам (Владимир Иванович, я, почему-то думаю, что, в основном вам!), и отдельный респект и бесконечное уважение Тагиру Мухаметову!
P.S. Из единственного минуса фестиваля, то, что придя домой, я зачехлил свою гитару, которая всегда стояла возле моего рабочего места, возле компа, и убрал в дальний угол. Не хочу позориться даже перед собой, по крайней мере, пока не отойду от впечатлений .
И фотографий много, не знаю, как вам, мне нравятся все. Пока несколько фотозарисовок с фестиваля:
Отличительная особенность, наверное, всех бардовских слетов — это присутствие детей, детей всех возрастов, причем независимо от погоды! Конечно, нам повезло без дождя, и речка рядом, и искупаться можно, огромная поляна, где можно мячик погонять, никому не мешая (даже я подключился). Кто-то играл с собаками, которые, кстати, тоже непременные участники всех выездных конкурсов, проводимых на природе. Причем эти собаки необычайно воспитанные, могут пройти по сцене во время выступления хозяина, строго посмотреть на зрителей: «Что плохо хлопаете?», -и уйти с достоинством английского лорда. Я со страхом представил, что будет, если мой Тузик вдруг окажется в такой пестрой компании. Он же не успокоится, пока не разгонит всех собак, не проинспектирует сцену, оставив свою метку на каждой микрофонной стойке, не перекусает все мячи. не переловит все летающие тарелки и не съест все съестные припасы, включая те, что на общей кухне. Лабрадор — собака живая и вечно голодная, а моя — еще и невоспитанная.
А дети! Традиционная поговорка: «каковы родители — таковы и дети», — здесь работает на сто процентов. Вот их присутствие на таких музыкальных праздниках — гарантированная прививка доброжелательности, уважительного отношения к людям, тактичности, взаимовыручки (вы бы видели с какой искренней заботой старшие играли с младшими) и предупредительности. Невозможно представить, чтобы в атмосфере всеобщей гармонии было бы иначе.
Если вы подумаете, что двухдневный песенный марафон для участников фестиваля — простое развлечение, то вы сильно ошибетесь! Я уже рассказывал, с какой тщательностью, требовательностью настраивал микрофоны Юрий Ефимов, а чтобы так спеть, так выплеснуть эмоции, вызвать и обрушить на зрителя ураган чувств — это не простая работа, на которую способен только Маэстро, и, которая, наверняка, стоит ему немалых физических и духовных сил. Я стоял совсем рядом со сценой и видел какого напряжения стоит такое эмоциональное выступление. Даже такие профи, как Сергей Сушков и Наталья Покаржевская, иногда подсказывают друг другу: «Здесь чуточку погромче, эту песню — повеселее». Они не просто поют, они работают на сцене, хотя из зала это может быть и не заметно. Зато каков результат! Без этого труда, без шлифовки текстов и музыки, без долгих репетиций и специальной подготовки, а зайдя на страничку Юрия Ефимова я узнал, что он занимается специальной дыхательной гимнастикой и организует тренинги по ораторскому мастерству, вот такой блестящий результат был бы невозможен. Это еще и маленькая подсказка дипломантам фестиваля, чьи амбиции оказались не удовлетворены.
Ну, и еще немного фото:
Чувствую, что меня скоро побьют, и побьют свои же авторы, свои же исполнителя, свои же поэты и свои же чтецы. Надо срочно исправляться.
Как вы уже догадались, наш Чистополь был представлен не только организатором, душой и мотором фестиваля, мэтром бардовской песни Тагиром Мухаметовым, но и достаточно большой группой участников, и не всех, к своему стыду, я знал. На фестивале «Булдырь Фест — 23» выступали и Лилия Валеева, и Нэля Нигметзянова, причем Нэля успела и в конкурсе поучаствовать и быть соведущей фестиваля. Видели мы на сцене Романа Парфенова, Алексея Артемьева, который выступал в первый вечер вместе с виртуозом игры на гитаре Александром Порошенко, а в конкурсной программе Алексей выступил с Анатолием Рогожкиным. Гитара в сопровождении баяна — что может быть прекраснее! Алексей, вообще явил образ многостаночника — он еще и в конкурсе поэтов прочел свой «Монолог скрипучей ступеньки», но мне больше нравится его песня на его же стихотворение. В конкурсе поэтов выступили Наталья Курнавенкова и Наталья Пасмурова. Да, еще был замечательный женский коллектив из самого села Булдырь, это они зажигали в «визиточном» концерте!
Немного грустно, что никто из наших не смог потянуть на звание лауреата, но посмотрите, кто смог! Наиля Коржак из Ульяновска в номинации исполнитель — какое-то запредельное качество исполнения и игры на гитаре! Анна Мухутдинова, город Казань — лауреат в номинации автор музыки. Анна же — практически композитор. Светлана Летяга, Набережные Челны, в номинации — поэты. Чтобы так писать и так читать свою поэзию, надо, по меньшей мере, столько же пережить. Не помешает еще и образование филолога, постоянный тренинг в школе и, талант, наконец. И Анна Юрьева из города Сарова в номинации автор полный (полные чудаки эти барды). О Анне я уже рассказывал. С таким удивительным тембром голоса, причем вживую он звучит особенно красиво, ярко, интересно, и с таким огромным набором авторских песен, написанных и исполненных в самых разных жанрах, ну, я не знаю, как ее победить. Пока Анна будет приезжать к нам, победить ее в этой номинации, наверное, невозможно. Но мы ее все равно ждем в гости!
Что до меня, то я с удовольствием слушал и дуэт Нэли Нигметзяновой с Тагиром Мухаметовым, и Алексея Артемьева и с великолепным Александром Порошенко, и не менее великолепным Анатолием Рогожкиным, и, особенно Лилию Валееву. Что касается голоса, то Лилия здесь на высоте. Она нисколько не уступает в этом компоненте лауреатам. Ее голос звучит в камерных залах просто потрясающе, обнаруживая богатейший спектр и выразительность. Может быть, репертуар был не самый выигрышный, ну, да, ведь не последний фестиваль. Хорош и искренен в исполнении был и Роман Парфенов. Замечательно почли свои стихи и наши чтецы, две Натальи, одна Курнавенкова, а другая — Пасмурова, у них тоже все впереди, как говорится «лиха беда начало». Желаю им всем успехов в их творчестве, новых песен, новых исполнений, новых стихов!
Еще немного закулисья фестиваля:
Здорово, что появились новые друзья, здорово, что появились новые песни, новые книги (Радик, спасибо!), здорово, что моя новостная лента пополнилась хорошими, добрыми событиями:
Остатки фестивальных фотографий. Люблю фотографии, сделанные в сумерках, или совсем в ночи. Конечно, моя старенькая камера не может передать всю красоту сочетания наступающей на фестивальный берег теплой летней ночи и динамику, экспрессию, драйв выступлений, но мне, по-крайней мере, они дороги:
Я уже не раз описывал свои поиски утраченных или влачащих жалкое существование зданий и сооружений, некогда представляющих впечатляющие творения инженерной мысли выдающихся (пусть штамп — зато правда) губернских и, даже столичных, архитекторов. Скажете, что Александр Брюллов, Константин Тон, или Григорий Пятницкий и Лев Хрщонович не выдающиеся архитекторы? Храмы их постройки, даже в том виде, в котором они дошли до нас, настолько гармоничны и даже сейчас величественны, что после осмотра их останков на чудо современной архитектурной мысли и смотреть не хочется. А какие великолепные усадьбы когда-то украшали ландшафт Чистопольского уезда. Стоящие на берегу запруженного ручья, или спрятавшись под сенью вековых деревьев они видели и кавалькады карет их императорских особ, и писателей и поэтов, чьи стихи и прозу мы учили в школе. А владельцы усадеб некогда составляли цвет российского общества — Мусины-Пушкины, Нейгардты, Сазоновы, Молоствовы, Хованские, Булыгины, Бутлеровы, да и не только они когда-то проживали в нашем Закамье. Вот работа над описанием моих поисков и навело меня на мысль, что пора уже открывать рубрику под названием «В поисках утраченного».
Сегодня расскажу, как мы с дочерью поехали искать, нет, не усадьбу, усадьбы давно уже нет, искать, хотя бы место, где когда-то располагался усадебный дом известного дворянского рода Нератовых.
О Нератовых я уже писал пару лет назад, статья называлась «Последний из могикан». В ней я рассказывал о судьбе последнего председателя Чистопольской уездной земской управы, о Александре Анатольевиче Нератове. Стоит и сегодня немного рассказать о этой известной и влиятельной семье, оставившей свой след в истории Российской империи, да и не только Российской.
Первый Нератов, появившийся в Казанской провинции, Александр, упомянут в «Алфавитном списке Казанской провинции дворян и прочих владельцев», составленного приблизительно между 1771 и 1773 годом. Под № 510 в этом списке числится Александр Нератов, Казанского адмиралтейства подмастерье, владеющий одной душой мужского пола. В Казань Александр Нератов прибыл из Санкт-Петербурга, где он работал на судостроительной верфи. Известны даже некоторые суда, которые построил Александр Нератов. Это два пакетбота, одна 10-весельная лодка, пинки, барки, яхты, лоц-суда и даже водоналивные суда. Даты постройки — 1776-1785 годы.
В 1774 году, в Казани, у Александра родился сын Иван, будущий участник Русско-турецкой войны, войны с персами, будущий Командир Ижевского оружейного завода, Командир Казанского Порохового завода, будущий генерал-лейтенант. Интересна формулировка благодарности Ивану Александровичу Нератову от Артиллерийского департамента Российской империи, которую от получил в 1828 году: «…за выгодную покупку для Казанского Порохового завода лошадей и за уменьшение через изысканные средства цены по приготовлению на Ижевском Оружейном заводе лафетной оковки». Можете представить подобные действия чиновников в современной России?
Наверное, еще большую известность фамилии Нератовых принес сын Ивана Александровича — Анатолий Иванович Нератов, родившейся в 1830 году. Вот что пишет о нем Википедия — Нератов Анатолий Иванович, окончил Казанский императорский университет, Государственный деятель Российской империи, Келецкий губернатор Царства Польского, сенатор, действительный тайный советник. Его послужной список, как тогда говорили — Формуляр, огромен, из близкого нам можно вспомнить, что Анатолий Иванович в 1854 году был избран предводителем дворянства Чистопольского уезда и занимал этот пост в течении пяти лет.
И вот теперь, наконец, мы дошли до сына Анатолия Ивановича, до нашего Нератова, Александра Анатольевича, последнего председателя Чистопольской земской управы. Александр Нератов родился в 1869 году, в Санкт-Петербурге, окончил Императорское училище правоведения, какое-то время работал товарищем прокурора Псковского окружного суда. Переехал в Чистополь. В 1904 году был избран председателем земской управы Чистопольского уезда. Было ему тогда тридцать пять лет. В 1913 году (при тайном голосовании, заметьте) единогласно был избран на четвертое трехлетие председателем уездной земской управы. Далее позволю себе сослаться на прекрасную монографию Надежды Геннадиевны Валеевой «Чистопольское уездное земство».
«А.А. Нератов, потомственный дворянин, многократно избирался уездным и губернским гласным (депутатом, если вам так будет понятнее), Почетным мировым судьей (Почетным — это значит работа без денежного содержания, бесплатно), попечителем земских школ и Богородской больницы. В 1905 году Нератову была вынесена благодарность за хороший ремонт школьных заведений в Изгарах и Аксубаево, проведенный на личные средства… Личность Нератова, выпускника императорского училища правоведения, весьма привлекательна. Нератов слыл в местном обществе человеком деятельным, весьма принципиальным. Под его патронажем и при его участии в уезде было открыто 8 медицинских участков, на которых трудились 9 земских докторов. С участием Нератова образовано 3 ветеринарных участка, создано 6 агрономических участков, более 130 одноклассных и двухклассных школ (здесь нет опечатки, в дооктябрьские годы в селах и деревнях уезда открывалось до 10 школ ежегодно!). В мае 1913 года в Уфе в здании городской Думы состоялось первое в России Общеземское совещание о земском книгоиздании. В его работе приняли участие представители 21 губернских и 20 уездных земств. Казанское губернское земство не делегировало своего представителя. Лишь Чистопольский уезд был представлен на совещании Александром Нератовым. На совещании обсуждались проблемы кооперативного выпуска учебников для школ и книг для народных библиотек.
Под руководством Нератова регулярно проводились работы по сбору сведений о запасах продовольствия в уезде, удовлетворения в нем потребностей населения в неурожайные годы, о пресечении тунеядства и потребления алкоголя. Разрабатывались мероприятия по улучшению базы животноводства. семенного фонда, культуры земледелия. Современники отмечали, что Нератов привлекал людей порядочностью, воспитанностью, мягкостью характера. Он очень любил земское дело, отдавался ему беззаветно не щадя своих сил, изучал земские положения, в совершенстве владел знаниями в области земского налогообложения. А. А. Нератов с полным основанием может быть отнесен к числу выдающихся земских деятелей».
Жили Нератовы на Дворянской (Толстого), на ее пересечении с Константиновской улицей (Галактионова) в большом доме с мансардным этажом наверху. Стоит ли говорить, что дом давно снесен. Интересно, что само название улицы, на которой жили Нератовы — Толстого, тоже связано с деятельностью Александра Анатольевича. Дело в том, что Александр Анатольевич был «толстовцем»,то есть почитателем и последователем учения Льва Николаевича Толстого. Помните — непротивление злу насилием, отказ от вражды с любым народом (»любите врага своего»), любовь к ближнему, нравственное самоусовершенствование. Толстовцы отвергали догматы организованной церкви, общественные богослужения, не признавали церковную иерархию, но высоко ставили моральные принципы христианства. Критиковали православную и вообще официальную религию, а также государственное насилие и общественное неравенство. Неудивительно, что лидер движения «толстовцев» — сам Лев Николаевич, был проклят церковью.Так вот, после смерти великого писателя, Александр Анатольевич приложил немало усилий, добиваясь появления в нашем городе улицы имени Графа Толстого. Можете себе представить, чего стоило назвать улицу именем человека, подвергнутого господствующей церковью анафеме за свои еретические взгляды. Александр Анатольевич подключил все свои связи, писал прошения в Сенат, но добился появления в Чистополе улицы Графа Толстого. Так что, если бы не Нератов, жили бы мы на улице имени какой-нибудь Розалии Залкинд — «Землячки» или товарища Бела Куна.
Еще из интересных штрихов к портрету Александра Нератова. Александр Анатольевич старался вести здоровый образ жизни, у него, наверное, у первого в уезде появился велосипед, на котором председатель Земской управы приезжал на работу. Когда другой председатель — председатель Совета рабочих и солдатских депутатов Олег Строгонов приехал конфисковывать «нечестно нажитое имущество», конфисковывать, как оказалось, нечего, из движимого имущества был только велосипед, вот его-то и реквизировали. .
Жизненный путь последнего председателя Чистопольской земской управы после свершившегося в 1917 году октябрьского переворота был нерадостен. Какое-то время Нератов скрывался в имении, потом жил в Чистополе. Что удивительно, его новая власть не трогала, видимо из уважения к его заслугам и благодаря устойчивой репутации порядочного человека. Александр Анатольевич был дружен с отцом Василием (Рождественским), пытался хлопотать о сохранении церковного имущества в период его разграбления. Принял православный сан, его приход находился в селе Онбия Заинского кантона при церкви Николая Чудотворца. Умер Александр Анатольевич Нератов в 1933 году. Похоронен на сельском кладбище. Могила не сохранилась.
Нельзя не вспомнить и брата Александра Анатольевича — Анатолия Анатольевича Нератова. Анатолий Нератов имел придворный чин гофмейстера — управляющего дворцовым хозяйством и штатом придворных, статский советник, в 1910-1916 годах служил товарищем министра иностранных дел Российской империи, член Государственного совета.
И несколько слов о младшем сыне Александра Анатольевича Нератова — еще одном Анатолии Нератове, рожденном в Чистополе в 1907 году. Он окончил Казанский художественный техникум, но поступить в Академию художеств в Ленинграде ему не позволили — классово чуждый элемент, из дворян. Однако в те годы существовала такая практика: если академик архитектуры удостоверяет, что человек может быть архитектором, то он получал эту специальность. Знаменитый архитектор начала XX века В. Щуко дал Анатолию Александровичу такой документ. Но устроиться на постоянную работу в Ленинграде ему не удалось. Друзья подсказали, что в Москве набирают архитекторов для мастерской Дворца Советов, который хотели построить на месте взорванного Храма Христа Спасителя. Анатолий Нератов занимался разработкой мебели для будущего учреждения. (Был такой проект помпезного здания с гигантской фигурой Ленина на крыше, этакой Статуей Свободы. Правда, построили на этом месте только бассейн). Когда началась война, он попал в московское ополчение. Ополченцам выдали обмундирование, продовольствие – всё, кроме оружия. Его нужно было взять в бою голыми руками. Анатолий Александрович попал в плен под Вязьмой. Бежал, партизанил, попал под облаву гестапо, затем в тюрьму. Больного тифом его увезли в Германию. Их лагерь оказался в американской зоне оккупации, и пленных после Победы там продержали ещё год. Вернуться на родину он не рискнул. После войны, попал в США, работал, построил собор Святого Николая в Вашингтоне в память о всех православных, погибших во Второй мировой войне. Умер в 1973 году,похоронен на одном из кладбищ Нью-Йорка.
Ну, а о поисках усадьбы Нератовых читайте в следующей части.
И, кстати, была когда-то хорошая традиция называть улицы города в память о тех людях, которые своей жизнью и своими благими делами сделали наш город таким привлекательным и таким благоустроенным, каким он встретил революционные перемены. Так в нашем городе появились Челышевская улица, Маклаковская, Чукашевская, Журавлевский переулок, улица Полякова. Спросим себя, а что мы сделали для сохранения памяти этих выдающихся людей, жителей нашего города, к которым по праву можно причислить и Александра Анатольевича Нератова? Неужели Проспект Юбилейный (интересно, юбилея чего или кого?) звучит лучше чем проспект Александра Нератова? Ведь есть же далее улица авиатора Костина и улица доктора Авдеева, так почему бы все улицы нового микрорайона не назвать в память залуженных жителей нашего города?:
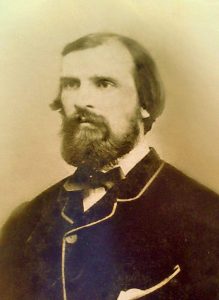 Фавста Ермолаевна Нератова (Молоствова), мать Александра Анатольевича Нератова:
Фавста Ермолаевна Нератова (Молоствова), мать Александра Анатольевича Нератова:
 Александр Анатольевич Нератов:
Александр Анатольевич Нератов: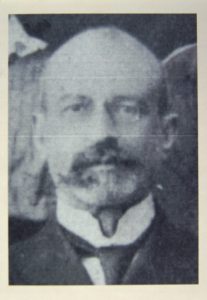 Церковь Николая Чудотворца в Онбии, в которой служил Александр Анатольевич Нератов:
Церковь Николая Чудотворца в Онбии, в которой служил Александр Анатольевич Нератов:
В первой части статьи я рассказывал о ярких представителях семейной династии Нератовых. О кораблестроителе Александре Нератове, о генерал-лейтенанте Иване Александровиче Нератове, о государственном деятеле Российской империи, Келецком губернаторе Царства Польского, сенаторе, бывшем когда-то и уездным предводителем чистопольского дворянства Анатолии Ивановиче Нератове, о последнем председателе Чистопольской уездной управы Александре Анатольевиче Нератове, о его брате, товарище (заместителе) министра иностранных дел Российской империи Анатолии Анатольевиче Нератове, о сыне Александра Анатольевича Нератова, Анатолии, родившегося в Чистопольском уезде, но волею судеб оказавшемся в США и ставшим в этой стране архитектором и строителем храма в память всех павших во второй мировой войне.
Вот теперь настало время поговорить и о земельных владениях Нератовых. Кроме нижегородских земель, Нератовы владели имениями в Чистопольском уезде Казанской губернии и Мензелинском уезде Уфимской губернии. Самое обширное, с большим господским домом, располагалось в деревне Уратьма — Поповка на востоке Чистопольского уезда. Южнее, верстах в тридцати, уже в Мензелинском уезде Уфимской губернии, находилась деревня Нератово Батрасской волости. Пару лет назад, вдохновленный сведениями из инета о существующих в этой деревне остатков полуразрушенной барской усадьбы, я поехал в Нератово. На окраине деревни в зарослях клена, действительно, нашлось кирпичное строение, которое считали усадебным домом. Но две встреченные на улице старожилки рассказали, что полуразвалившееся строение — это брошенное на произвол судьбы здание школы, существовавшее еще с дореволюционных времен. Дальнейшие поиски подтвердили, что Нератовы в этом землевладении не жили, в деревне проживал управляющий, который и вел все хозяйство. Еще одно имение — Нератовка Сухаревского уезда Мензелинского же уезда находилось к северу от Уратьмы, совсем близко, верстах в десяти. Сегодня деревня Нератовка существует только на старых картах. Она исчезла с лица земли еще в 70-тых годах в результате укрупнения колхозов. В самой Уратьме не осталось и следов от усадебного дома, но, как известно, дворянская усадьба Нератовых находилась именно здесь. Мало того, существует и фотография самого дома и фотография дома на фоне запруженной речки Уратьма.
Этот необычный деревянный дом, с высоким красивым крыльцом, башенками, надстройками, фигурной крышей и флюгерами дом, вероятно, построил Иван Александрович Нератов вышедший в отставку в 1848 году и поселившийся в своем имении Уратьма Поповка тож. Согласно семейному преданию, уходя в отставку, Иван Александрович получил в дар дюжину пушек разного калибра по числу двунадесятых праздников. На стволах были отлиты дарственные надписи. Эти пушки были увезены им в свое имение, где из них и палили по праздникам.
Скончался Иван Александрович Нератов и был похоронен в Уратьме. После его кончины вдова – Фавста Ермолаевна Нератова, урожденная Великопольская, – построила в Уратьме каменную Сретенскую церковь. Строительство было завершено в 1866 году и в том же году церковь была освещена в честь Сретения Господня. В 1930-х годах храм, как и многие другие церкви, закрыли. В дальнейшей своей жизни здание использовалось под зернохранилище, а когда окончательно пришло в негодность — опустело. Но и нынешний вид заброшенного храма еще носит следы красоты старой Сретенской церкви. В двухпрестольный храм входили через двери, установленные в высоченных арочных проемах, высокие венецианские окна украшали его стены. Он весь устремился ввысь, словно старается воспарить, это особенно ясно видится внутри храма. Даже сегодня, через сто шестьдесят лет, видны следы росписи, когда-то сплошь покрывавшей и оштукатуренные стены, и портики, и колонны, и высокие своды его перекрытий. Храм высится над селом, видимый далеко с подъезда. Мы обнаружили внутри странное сочетание типичной гражданской мебели — мебельной стенки, кресел, холодильника и нескольких церковных подсвечников — красивых высоких латунных столиков на тонкой ножке, в держателях которых еще были укреплены тонкие свечи. Сохранившиеся в значительном количестве каменные плиты на полу, три каменные же полукруглые ступени перед алтарем, еле видимая роспись на стенах, эти подсвечники, пара икон, обнаруженных в случайных местах, все это переносило нас в те времена, когда храм блистал благолепием, был полон прихожан, а по праздникам звучал голосами церковного хора. Беспорядок в храме, строительные материалы — все это следы начавшейся реставрации, возможно, когда-нибудь его приведут в порядок.
Ну, а о поисках самого фамильного дома — в следующей части:
В первых двух частях я рассказывал о некоторых членах дворянской семьи Нератовых, внесший свой весомый вклад в развитие как Российской империи в целом (ну, не будете же вы отрицать, что генерал-лейтенант, или Руководитель одной из провинций Царства Польского, сенатор, или заместитель министра иностранных дел ничего не сделали для Отечества), так и в развитие Казанской губернии и Чистопольского уезда. Нератовым довелось побывать и Предводителями дворянства нашего уезда (я настолько свыкся с дореволюционной историей Чистопольского уезда, что с лекгостью уже пишу — «нашего уезда»), и руководить целых три выборных срока нашим уездным земством. Еще я рассказал о Сретенской церкви. которую Фавста Ермолаевна Нератова (Великопольская) построила в Уратьме в память о своем умершем муже Иване Александровиче.
В этой части статьи я расскажу как искал «барскую усадьбу» и что из этого вышло.
Если Сретенскую церковь искать не было необходимости, она стояла на возвышенности, перенося нас в далекий XIX век, то с «барским домом», а так обычно называли усадебные дома, была полная неопределенность. Имелись фотографии самого дома и фото обширного пруда, за которым виднелись остроконечные башенки дома, а справа, поодаль, из купы деревьев выглядывали купола Сретенской церкви. Сначала я попытался отыскать место, откуда была сделана фотография пруда и дома за ним. Но ландшафт настолько изменился, берег зарос тальником, да и вместо пруда я обнаружил извилистую речку, текущую к тому же меж крутых берегов. Плотину, конечно смыло еще в незапамятные времена вешней водой, и больше ее никто и не восстанавливал. Мельницы, стоящей на отводном канале, и след простыл, пришлось надеяться на «помощь друга». К счастью, возле одного древнего, осевшего на один бок дома обнаружилась гостеприимно распахнутая калитка, а по двору бродили два явно деревенского вида мужика — один в потрепанном пиджаке, накинутом прямо на грязную майку, а другой в видавшем виде тельнике. К тому же воскресенье, дело ближе к вечеру, глухая, богом забытая деревня, так что оба были не слишком трезвы. Тот, который был пиджаке, оказался старожилом, его бабка 1914 года рождения родилась и всю жизнь прожила в Уратьме, и видела, конечно, и барский дом, и полноводный пруд, и водяную мельницу, и поташный завод, стоявший чуть поодаль. Еще девочкой водили ее в Сретенскую церковь, и крестили, наверное, в ней же. Мужикам явно не хватало собеседников, поэтому они рады были поделится со мной своими познаниями из истории села. Барский дом после смены власти реквизировали, или национализировали, или попросту — отобрали, превратив его в «воронью слободку» — большую коммуналку. Кого туда заселили, и зачем в деревне «коммуналка» — никто уже и не помнил, так же как и не помнил, когда дом пришел в совершенную негодность. Мельница простояла дольше. Еще лет тридцать назад камни ее фундамента лежали на берегу реки, а в мельничном омуте купались мальчишки. Мужики помнили, примерно, где, по рассказам бабушки, находился дом, но точное место показать так и не смогли: «Где-то там, за последними домами», — был уточняющий ответ. Зато они помнили, что мимо усадьбы шла дорога, по которой сельчане раньше ходили в церковь. Пришлось довольствоваться этими ориентирами. На окраине стояли два давно опустевших дома. Упавшие сени открывали взору распахнутые в дом двери, и… висевшую возле двери прялку. Это был не какой-нибудь музейный экспонат, украшенный затейливой городецкой росписью, а настоящая трудовая прялка. С каких времен этот выбеленный временем деревенский инструмент висит на своем гвозде — неизвестно. Это еще не все! Рядом висел серп! Его рукоять истоньшилась от заскорузлой мозолистой ладони, сжимавшей этот серп во время жатвы. Не взял я эти раритеты, не мне они когда-то принадлежали, не мне ими владеть. И сейчас они такие же полноценные ровесники села, такие же артефакты, как и Сретенская церковь, что стоит на холме, выше распахнутого дома. Побродив среди засорившего все свободное пространство клена, и обратив внимание на изредка встречавшиеся старые могучие деревья с обломанными и засохшими ветвями, мы все-таки нашли дорогу к храму. Она явственно виднелась среди зарослей, словно являясь последней связующей нитью исчезнувшей усадьбы и возвышавшегося над ней храма. Немного попетляв, дорога поднялась на возвышенность, и вот уже перед нами возникла Сретенская церковь — значит мы на правильном пути — скорее всего, это та самая дорога, по которой Фавста Ермолаевна поднималась к храму. Спустившись обратно в село, я обратил внимание на странный невысокий вал вдоль найденной дороги. Он тянулся метров на пятьдесят — семьдесят, выделяясь своей геометрической правильностью среди диких зарослей. Возле него иногда встречались обломки кирпичей, явно не современной выделки. Скорее всего, вал прятал под собой остатки фундамента ограды усадьбы, вряд ли стена дома была такой протяженности, да и конфигурация здания очень своеобразная. По крайней мере, место нахождения усадьбы Нератовых мы установили достаточно точно. Непередаваемое ощущение охватывает тебя, когда ты бродишь по предполагаемому месту, где много лет назад стоял дом, когда идешь по заброшенной дороге мимо старых засохших деревьев, когда входишь в распахнутые двери открытого всем ветрам храма . Это ощущения сопричастности к истории нашего края, ощущение врастания в далекий XIX век, будто ты на машине времени переместился на сто пятьдесят лет назад. Еще немного, и за поворотом заросшей дороги покажется необычный для этих мест дом с огромным крыльцом и красивой террасой, лес наполнится детскими голосами, а из трубы самовара, поставленного на лужайке возле дома, потянется еле заметный в ярком солнечном свете дымок, пахнущий сосновыми шишками.
Прочтенного вами материала не было бы, если бы не личная переписка с правнучкой Александра Анатольевича Нератова — Елизаветой Нератовой. Елизавета Ивановна предоставила для публикации некоторые фотографии из своего архива и любезно разрешила использовать сведения из своего интервью газете «АиФ — Казань», а также материалы нашей переписки https://kazan.aif.ru/society/persona/tochka_opory_dvo..
Правнучка последнего председателя Чистопольской земской управы Александра Анатольевича Нератова живет в Санкт-Петербурге, она заведующая отделом спец. хранения, хранитель Особой кладовой Российского этнографического музея.
Вот для чего я пишу эти статьи о забытых временем и людьми деятелях, которые так много сделали для города Чистополя и Чистопольского уезда, которые по праву являлись лучшими представителями светской и религиозной общественности, которые и составляли славу управленцев нашего уезда, губернии и, даже, Российской империи. Конечно, я далек от мысли, что прочитав мои заметки, представители нашей администрации бросятся к карте в поисках улиц, которые еще можно назвать именами этих, действительно, выдающихся людей. Последний руководитель Чистопольского уездного земства Александр Анатольевич Нератов, или Илиодор Порфирьевич Рожественский, 27 лет возглавлявший городскую управу, меценаты и благотворители нашего города Василий Львович Челышев, Петр Матвеевич Шашин, братья Григорий и Дмитрий Андреевичи Поляковы, сестры Анна Яновна и Вероника Яновна Францкевич, стараниями которых была создана наша музыкальная школа, Лев Харитонович Мизандронцев, философ и поэт, писатель и учитель, волею судьбы заброшенный в наш город, этот список можно продолжать и продолжать, они все достойны памяти, хотя бы в названиях их именами улиц нашего города. Я, все-таки надеюсь, что глас вопиющего в пустыне будет услышан теми, от кого зависит увековечивание этой памяти, что наша администрация задумается над тем, чтобы улицы нового микрорайона получили имена достойных людей нашего общества. Хочется надеяться, что к этой идее подключаться и сотрудники Музея-заповедника, организации, чей авторитетное мнение может быть услышано, кто может дать экспертное заключение и предоставить свои рекомендации и свои фамилии, свои персонажи.
Ну, и еще я пишу эти популярные статьи для вас, мои читатели, для ваших откликов. И очень радуюсь, когда приходят письма с уточнениями и дополнениями моих текстов. Такое письмо пришло в ответ на мои первые две части рассказа о Нератовых. Откликнулась Нина Евлентьева, уроженка нашего города. Вот ее рассказ, привожу его от первого лица.
«Моя свекровь родом из большой семьи Алексеевых, еще в дореволюционные времена поселившихся в Поповке — Уратьме. Поначалу семья жила на Нижней улице, той, что ближе к речке, но в 1955 году купили дом у председателя сельсовета Пономарева, и переехали на Верхнюю, она сейчас называется Солнечной. В этом доме я не раз гостила со своим мужем, позже привозила и своих детей. Деревня тогда была большой, дома подходили к самой дороге Камские Поляны — Нижнекамск. Ходили за полевой клубникой, ягодник был на поляне возле церкви, забирались и в саму церковь, лазили по барскому парку. Еще в 90-х аллеи парка хорошо просматривались, еще сохранялись ровные ряды деревьев, но дома уже не было. А вот тетушка моего мужа, уехавшая из Поповки в 1955 году, барский дом еще застала. В нем жили рабочие совхоза «Прикамский». Она помнит длинный белый коридор, по обеим сторонам которого располагались жилые комнаты. Тетушка вспоминала, что в детстве бегали в барский сад за крыжовником и смородиной, эти ягоды тогда были в диковинку у деревенской детворы. Тетушка помнила и фамилию священника, служившего в Сретенской церкви — Мазаев, он тоже жил неподалеку от них, на той же Нижней улице».
Расспрашивал я и о старом кладбище, в надежде отыскать следы могилы Ивана Александровича, но по рассказам Нины, старожилы не помнят кладбища возле церкви, отсылают к тому, что находится неподалеку от автодороги, туда, где сейчас часовня поставлена. Говорят, покойников всегда на этом кладбище хоронили, так что есть смысл побродить по нему. А часовню, кстати, построил уроженец деревни Поповка мастер спорта международного класса чемпион Европы по автокроссу Николай Жаворонков. Еще, по словам Нины Евлентьевой, старожилы утверждают, что все-таки была еще одна усадьба, и находилась она в соседней Нератовке, в той, ныне исчезнувшей, что располагалась рядом со Смыловкой, а значит мое путешествие в эти края было не последним:
Первый снимок в сверхвысоком разрешении этого места с американского разведывательного спутника KH-9 от 23 июня 1974 г.:
Первый цветной снимок со спутника QuickBird-2 (США) от 20 мая 2005 г. из Google Earth:
Лестница в небо
#нашчистополь #прогулкипоокрестностям #закамье
Ну, подумали знатоки истории рока, сейчас начнет «баки забивать», как легендарные Led Zeppelin, вдохновившись прогулками по окрестностям Чистополя, написали свою, возможно, лучшую песню — «Лестницу в небо». Успокойтесь. Есть, как минимум, две лестницы в небо. Одна — та, которые знают все, кто когда-то интересовался рок-музыкой, а другую я нашел во время летних поездок по нашему Закамью. Она не менее удивительна, не менее красива, не менее мелодична, и, уж наверняка, гораздо старше. Находится наша лестница в селе Красная Слобода Спасского района.
Первое упоминание о Красной Слободе в материалах Центрального государственного архива древних актов относится к 1794 году. Тогда эти земли принадлежали Молоствовым, пожалуй, самым крупным землевладельцам этих мест. «Угол между Волгой и Камой» были пожалован Молоствовым еще в начале 17 века «за заслуги при борьбе с татарами». В 1692 году во времена совместного правления Иоанна и Петра Алексеевичей владение было подтверждено грамотой, выданной московскому дворянину Ивану Ивановичу Молоствову и его племянникам Андрею и Ивану Дмитриевичам. Семья была большая, просто огромная, постепенно строятся господские дома в селах Три Озера, Никольское, Куралово городище, позже в Долгой поляне Тетюшского уезда. В середине XVIII века крестьянами Льва Ивановича Молоствова было основан починок на опушке борового леса. Починок разросся в деревню, а деревни без названия быть просто неприлично, и деревню назвали Красной слободой, уж больно красивое место было это место. Еще в инете можно прочесть, что жители этой деревни торговали отменным, «красным» лесом, отчего и деревню называли Красной. Тоже слабо вериться — кто же позволит крестьянам торговать господским лесом. Да и смущает слово «Слобода» в названии деревни. Есть у меня другая теория появления названия Красная слобода.
Дело в том, что слободами называли поселения государевых людей, освобожденных, свободных от обычных для крестьянства налогов. Их задача была иная — охранная служба. Еще в начале 17 века на острове Чертык, расположенного ниже впадения Камы в Волгу, а место впадения представляло собой целую дельту с запутанной системой рек, речушек, проток и озер, так вот, на большом острове Чертык был основан Троицкий монастырь, первый монастырь нашего Закамья. Находясь вдалеке от достаточно обжитых мест, монастырь нередко подвергался набегам кочующих в этих местах ногайцев и калмыков. Для создания сторожевого поста на древней Ногайской дороге, неподалеку от описываемых мест, был поставлен укрепленный Ахтарский городок. Службу в таком городке чаще всего несли бывшие пашенные крестьяне, переведенные в разряд казаков. Им давалась земля на обзаведение хозяйством, пашня и покосы. Обычно такое поселение называлось слободой, я уже писал о истории появления таких слобод возле Новошешминского городка — Екатерининской, Петропавловской, Волчьей, тех, что в нашем Чистопольском уезде. Возможно, именно так неподалеку от монастыря и появилась Красная слобода. В 1650-х годах началось строительство Закамской засечной черты, и, оказавшись в тылу, Ахтарский городок перестал нести охранные функции, и его казаки были переведены в Ерыклинский и Билярский городки. Красная слобода опустела, и вот тогда-то она и была передана Молоствовым, и вновь заселена переведенными на это место уже господскими крестьянами. Троицкий же монастырь к 1700-му году прекратил свое существование. После смерти старого хозяина деревня перешла во владения сына — Феопемпта Львовича Молоствова. Секунд-майор в отставке Феопемпт Молоствов проживал в Санкт-Петербурге, в деревне своей не бывал, может быть поэтому господский дом и усадьба появились только при новых хозяевах.
В начале 19 века деревня принадлежала Казанскому губернатору барону Альфреду Карловичу Пирху. Вышедши в отставку в 1831 году, Пирх занялся воспитанием двух дочерей своих и, главное, — хозяйством, которое при нем стало считаться в Казанской губернии образцовым. Огромный парк, как водится, пруд и оранжереи, конюшня и хозяйственные постройки, все это немаленькое хозяйство было обнесено красивой оградой. Вот эта-то ограда, вернее, несколько каменных столбов, единственное, что сохранилось от усадьбы. По развалинам дома уже нельзя определить его первоначальное предназначение. Рядом с усадьбой сохранилось большое двухэтажное здание из красного кирпича с огромным, во все здание подвалом — явно какое-то складское помещение. После смерти Пирха, последовавшей в 1853 году, владелицей села стала его дочь — баронесса Аделаида Альбертовна Пирх, в замужестве графиня Комаровская. Именно она и построила в селе каменную церковь, освященную в 1861 году в в честь чудотворной иконы Казанской Божьей Матери.
Нельзя не упомянуть еще одного владельца двух с половиной тысяч десятин земель в Спасском уезде — штабс-капитана в отставке Дмитрия Фёдоровича Сазонова, отца будущего министра иностранных дел Российской империи, Сергея Дмитриевича Сазонова. Младший брат Сергея Дмитриевича — Николай Дмитриевич, прослужив несколько лет в губернской канцелярии Тамбовской губернии, к 1883 году перебрался в родовое имение в селе Красная Слобода. Вскоре Николай Дмитриевич был избран губернским гласным, а через год — почётным мировым судьёй по Спасскому уезду. На этой должности он переизбирался ещё четыре раза и прослужил около 16 лет. В дальнейшем Николай Дмитриевич Сазонов избирался и уездным, а впоследствии и губернским предводителем дворянства. Был депутатом Государственной думы третьего созыва от «съезда землевладельцев». Попечительствовал открываемым в уезде фельдшерским пунктам, начальным школам, курировал открывшееся при Краснослободском училище первое в уезде ремесленное отделение, где крестьянских детей обучали сапожному и башмачному ремеслу, Контролировал состояние дел в Бездненском, Полянском, Трёхозёрском, Щербетском сельских училищах. В должности губернского предводителя дворянства Николай Дмитриевич пробыл около 7 лет. Занимался преобразованием школ и народных училищ, выступал за усиление роли дворянства в жизни страны. Был и и председателем Казанского губернского земского собрания. Организовал в Красной слободе конный завод. Выступая в 1910 году в Государственной Думе, Николай Дмитриевич заявил, что имеет честь быть русским коннозаводчиком «в течение 27 лет», то есть со времени переезда в Красную Слободу, и подчеркнул, что из его конного завода «вышло около 40 призовых лошадей». Можно еще добавить, что его младший брат Сергей Дмитриевич, уже будучи министром, не раз бывал в гостях у своего брата в Красной слободе.
Ну, а теперь, перейдем непосредственно к лестнице, ведущей в небеса. Казанско-Богородицкая церковь, стоящая практически в центре села Красная слобода, конечно же не действует. Но состояние ее назвать полным запустением еще нельзя. Конечно, в храме отсутствуют окна, почти исчез купол над аналоем, но входная дверь еще висит на своих кованых петлях, в крепких кирпичных стенах практически нет трещин, и внешне выглядит он еще достаточно крепко и добротно. Современные архитекторы, отмечая четкие формы Казанско-Богородицкой церкви, интересный декор и оригинальную колокольню с шатровой крышей, что само по себе не часто встречается, называют ее самим совершенством. И это естественно, ведь храм был построен по образцовому проекту Константина Тона, русского зодчего, автора проекта храма Христа Спасителя в Москве. А непосредственно строительством занимался казанский губернский архитектор Иннокентий Платонович Безсонов. Иннокентий Платонович закончил Санкт-Петербургскую Академию Художеств в 1836 году с аттестатом первого достоинства и серебряной медалью. В 1837-1845 годах — архитектор Казанского учебного округа; в 1837-1863 — Казанский губернский архитектор. В 1844-м получил звание академика.
Я бывал во многих храмах нашего Закамья, были они в разной степени сохранности. Но должен сказать, что этот — особенный. Вроде все, поначалу, как обычно — влево из притвора в небольшом помещении спрятана лестница, ведущая на колокольню. Она из красного кирпича, но это часто бывает, поверху осыпавшиеся ступени из белого камня. С опаской посмотрев наверх, я все-таки решил подняться хотя бы на первый ярус колокольни. Цепляясь за красивую металлическую решетку высокого окна я кое-как добрался до первого перекрытия колокольни. И вот там, задрав голову, я увидел это чудо. Первый пролет кирпичной лестницы шел вдоль стены первого восьмерика. А дальше, дальше лестница, ведущая к когда-то висевшим под шатровой крышей колоколам, шла прямо по воздуху! Между противоположными стенами барабана архитектор перекинул узкую кирпичную арку, на которой укрепил ступени, Этот выгнутый кирпичный мостик висел в воздухе, казалось, отрицая законы гравитации! Арка, распертая, расклиненная между кирпичными стенами была легка и изящна, а белые ступени лежали на ней, словно клавиши рояля! Узкая висящая в небе дорожка из красивого красного кирпича, словно звала подняться выше и выше. Это было запредельно красиво! Как архитектор смог такое придумать?! Как строители так блестяще смогли выполнить эту задумку?! Я дошел до следующего поворота этой небесной лестницы, но дальше, признаюсь, не рискнул. Она была узка, всего в два кирпича, оттого и казалась такой невесомой. Видимо, было еще и какое-то деревянное ограждение, или поручни, которые время не смогло уберечь. Совершенно ошеломленный увиденным я спустился вниз, чтобы пройти в храм. Высоченные проемы окон, изящнейшие переходы из четверика в восьмерик, продолжающиеся высокими арками, поддерживающими главный купол основного помещении храма. Где-то там, в небесах, сдвоенные венецианские окна льют свет на аналой, сохранившиеся на глухих проемах стен барельефы в виде цветочных розеток. Неужели мы все это потеряем? Кто же мы такие тогда?
Еще одна значительная стройка Иннокентия Безсонова — Троицкий собор в городе Спасске. Собор был построен к 1852 году. Но насладиться его видом мы сегодня не сможем. При созданием Куйбышевского водохранилища, город Спасск был затоплен, каменные дома были взорваны или разобраны. Троицкий собор постигла та же участь. А жаль, ведь и доныне водохранилище не достигло запланированной отметки, и доныне на затопленном острове торчат из воды фундаменты древних зданий, и мы вполне могли бы гордится встающим прямо из воды Троицким собором, как калязинцы сегодня гордятся своей главной достопримечательностью — колокольней Николаевского собора, высящейся посреди Угличского водохранилища и привлекающей множество туристов.
Кстати, архитектора Иннокентия Безсонова, мы, чистопольцы, должны знать. Это он спроектировал в 1840-м году нашу церковь, церковь Светлого Воскресения Христова. Храм был построен к 1848 году на средства чистопольского купца Иоанна Иоанновича Калинина. Вот только не знаю, дожил ли этот благодетель до освящения, дата его смерти как раз 1848 год. Не знаете такую? Правильно, это первоначальное название церкви, которую в 1943 году, после времени разграбления и бездействия, а потом и вовсе варварски превращенной в тюремный замок, после допущения религии в жизнь народа во времена страшной войны, вновь освятили уже в честь Иконы Божией Матери Казанская, оставив и придел Воскресения Христова. Иногда эту церковь называют и кладбищенской. Но это уже другая история:
КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ
#нашчистополь #историявоскресенскойцеркви
Пост этот написан после очередной поездки в дачный поселок Змиево. Каждый раз, приезжая туда, я непременно выхожу на высокий крутой берег Прости, чтобы полюбоваться раскинувшимися до горизонта просторами. Поздней осенью, когда воздух особенно чист и прозрачен, можно увидеть даже сосновый бор на песчаных кручах Красного Яра, а уж извилистый узор бесконечных проток, заливов, озер, пересекаемых косами, заросшими лесом или густым камышом, кажется, расположен прямо под ногами. И, конечно, нельзя не подойти к одному из самых старых храмов нашего Закамья — храма Воскресения Христова, или как его чаще называют Воскресенской церкви.
Вот, что писали о нем в 1904 году:
«Церковь каменная, построена в 1742 году на средства прихожан, двухпрестольная: главный холодный в честь Обновления Храма Воскресения Христова, придел с левой стороны теплый в честь Покрова Пресвятыя Богородицы. В приход церкви входят село Змиево и деревня Змиевские Выселки в 8 верстах. В селе Змиево 183 двора, 606 мужчин и 624 женщины, раскольников 1 мужчина и 3 девочки, в земской школе 47 мальчиков и 10 девочек. В Змиевских Выселках 71 двор, 252 мужчины и 277 женщин.
Штат притча: священник и псаломщик, дома церковные, жалованье священника 300 рублей, псаломщика 100 рублей (в год), в пользовании притча 2/3 десятины усадебной земли и 33 десятины пахотной. (Напомню, что десятина тогда была чуть больше гектара — 1,02 га). Капитал церкви 200 рублей.
Священник Н.Н. Мудров, 67 лет, вдов, имеет дочь 33 лет. Окончил курс Семинарии по 2-му разряду, младший помощник благочинного, законоучитель. В сане с 1861 года, в приходе с 1880 года. В 1895 году награжден Наперсным крестом. В 1902 году награжден орденом Св. Анны 3 степени.
В должности псаломщика диакон М.П.Павлов, 35 лет, окончил курс учительской Семинарии, учитель пения в земской школе. В семействе у него жена и дети: 11, 9, 7, 5, 3 и 1 год. Диакон с 1895 года, в приходе с 1899 года.
Церковный староста крестьянин Емельян Николаев Шилов».
Многое в храме необычно — и отдельно стоящая колокольня, да еще и крытая не традиционной византийской луковкой, как главки самой церкви, а имеющая шатровое навершие. А ведь шатровая крыша была прямо запрещена при строительстве церквей после раскола Русской Православной церкви в 1650-х годах, во время которого часть верующих, не приняв предложенные патриархом Никоном реформы, вернее изменения в церковных книгах и в проведении служб и некоторых обрядов, объявили себя истинно верующими, откололись от традиционной церкви, за что были преданы анафеме и преследовались с разной степенью ожесточения вплоть до знаменитого Указа Николая II «О укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 года. Удивительно, что колокольня не находится на одной оси с храмом, а стоит, как бы в стороне. Если внимательно всмотреться в верхний восьмерик колокольни, можно заметить два проема на противоположных сторонах, на западной и восточной, напоминающих своей формой колокол. На кирпичном поясе, под проемами, укреплены почему-то не православные, а мальтийские кресты. Да и крест из белого камня над главными вратами церкви отсутствием нижней перекладины — «мерила господнего», напоминает своей формой не православный восьмиконечный, а четырехконечный католический.
Удивительна и архитектура фронтона Воскресенской церкви, на нем целых пять глав-луковок, увенчанных православными крестами. Увы, осталось только три, вернее две с половиной. Высокие окна устремляют все сооружение ввысь, к небу, и все это вкупе кажется изумительной по красоте отдельной надвратной церковью. Войдем же внутрь. Пройдя портал колокольни, буквально столбенеешь — прямо на тебя со стены трапезной, как будто с небес, спускается, видимо, один из святых, держащий в руках что-то похожее на плащяницу. Фигура его прекрасно сохранилась, а вот лица уже не разобрать. Внизу, у его ног, расположились улыбающиеся ангелы. Увидев эту фреску в первый раз, я пожалел о своем незнании традиционных сюжетов, изображаемых на стенах церквей — так хотелось докопаться до сути замысла художника. Может это изображение самого Иисуса, сходящего к людям после воскрешения? Сила воздействия на входящего в церковь, даже при таком грустном состоянии фрески просто неимоверна. Ниже фигуры, вдоль могучей арки, поддерживающей свод трапезной, а все перекрытия храма выполнены в виде кирпичных сводов, частично сохранилась какая-то надпись, выполненная староцерковным шрифтом.
Но еще более удивительное зрелище — у вас за спиной. Обернувшись, вы сперва увидите светлые просторные хоры, устроенные в верхнем ярусе входных врат и освещенные теми самыми высокими окнами над входом церкви. Должен сказать, что архитектура хоров над входным порталом для закамских церквей весьма необычна, я, по-крайней мере такого чуда в нашем регионе еще не встречал. На фоне светлых, просторных хоров и солнечных лучей, проникающих в трапезную сквозь большие оконные проемы и бьющих вам в глаза, вы не сразу обратите внимание на роспись, что расположилась на нижнем поясе хоров и на столбце, разделяющем удивительно изящный внутренний венецианский проем. А роспись эта удивительна. Я не смог сразу понять, что означают молоток, клещи, вилы, розги (вот они-то, в конце концов и дали подсказку) и пики. Эти изображения, размещенные на стенах церкви, я видел впервые. Но этот ребус сразу разгадал Рафаил Хамитович Хисамов. На нижнем поясе хоров были изображены орудия истязания плоти человеческой, чуть выше них ясно виделся терновый венец, а еще выше, на столбце меж двух высоких проемов, находилось изображение самого Иисуса Христа, распятого на кресте. Ну, да, вспомнил я, церковь недаром освящена в честь Воскресения Христова.
Боковые пристрои находятся в печальном состоянии, с обвалившимися сводами перекрытий, оконными проемами, утратившими и решетки, и даже саму геометрию окон. Сохранился, к счастью, свод престола, освященного в честь Покрова Пресвятой Богородицы, находящийся в дальнем углу левого придела. Он темен и таинственен, кирпичные стены и деформированный, но еще служащий защитой от осадков свод притягивают взгляд и, словно зовут приблизиться и дотронуться до древности — так красива старая кирпичная кладка, выполненная из огромных, по современным меркам, кирпичей на толстом слое известкового раствора. Сразу вспомнился давний спор с реставраторами — добавляли ли яйца в раствор при кладке церковных стен и перекрытий, или использовали их лишь при штукатурки стен для росписи.
В самом просторном зале церкви, в том, где, собственно, и собираются верующие на молитву, сегодня идет реконструкция, она, чаще всего, закрыта от посторонних глаз, но, не всегда. Мне повезло, и я смог попасть в этот зал. Сказать, что испытываешь благоговение, попадая сюда, не сказать ничего. Поначалу, ты не можешь вымолвить ни слова. Стоишь, как завороженный и озираешься по сторонам. На трех стенах подкупольного пространства сохранились картины, изображения сцен, столь дорогих каждому верующему человеку. Да, они в плохом состоянии, да, они утратили многие детали, да, на них сегодня сложно разобрать происходящее действие, но они — живые. Видимо, великий мастер расписывал храм, если спустя несколько столетий, они останавливают твой взор, не отпускают тебя и заставляют задумываться о вечном, о смысле жизни, о том, зачем, собственно, мы живем, в чем главное предназначение человека. Так они прекрасны. Рассказать о них невозможно, их надо видеть.
А на четвертой стороне, прямо перед тобой, словно с небес, спускается иконостас. Он огромен. Сейчас уже не понять, сколько ярусов было в нем, два, или три. Что удивительно, частично сохранился резной каркас иконостаса, позволяющий практически точно воссоздать его первоначальный облик.
Именно здесь ты начинаешь понимать, что храмы были не только прибежищем религии, нет, храмы являлись еще и прибежищем искусства, искусства в высоком, высочайшем смысле. И архитектура церкви, и иконопись, и монументальная живопись, выполненная в виде фресок, все это абсолютно совершенно и уникально. И именно это делает их, в своем роде, древнейшими музеями, дошедшими до наших времен, одинаково ценными как для верующих, так и для новоцерковлённых посетителей.
Церковное искусство изначально несёт в себе не только, и не столько эстетическую, сколько просветительскую и воспитательную функцию. События, картины из Ветхого и Нового Завета, воспроизведенные на стенах церкви, они должны быть интуитивно понятны каждому верующему человеку, ведь через них продолжается разговор с Богом. Вот почему так важно сохранять при реставрации то высокое искусство, которым пропитано буквально все пространство храма. И именно этого, высочайшего качества реставрации монументальной живописи, обеспечения сохранности уникальных фресок Воскресенской церкви хочется пожелать современным реставраторам, восстанавливающим сегодня храм. Кроме всего прочего, Воскресенская церковь еще и является объектом культурного наследия, защищенным Федеральным законом об охране ОКН. Поэтому грустно было видеть пластиковые рамы, укрепленные в алтарной части храма, а уж восьмиугольное окно в главном барабане, выполненное из того же грубого пластика, выглядит уж совсем инородным предметом в древнейшем в Закамье храме. А ведь переплет оригинального окна аккуратно был снят и сейчас лежит в церкви, удивляя своими изящными пропорциями и давая возможность сделать его точную копию. Вот сравните эти два окна, и составьте свое мнение.
Имя автора проекта Воскресенской церкви мне найти не удалось, возможно, за давностью постройки — 1742 год, его имя не сохранилось, но автор реконструкции, прошедшей в 1880-х годах известен. Это казанский губернский архитектор Лев Казимирович Хрщонович, тот самый, кто спроектировал и наблюдал за строительством здания чистопольского Духовного училища, построенного в те же годы, того, что на Николаевской — Бебеля. (Что благозвучнее по вашему мнению?) В Казани сохранилось удивительное по красоте здание Алафузовского театра, тоже работа Льва Хрщоновича. Судя по найденным сведениям, Лев Казимирович переделал входной портал, и, возможно, именно он пристроил интереснейшие в архитектурном плане хоры и устроил левый придел церкви. В числе жертвователей средств на реконструкцию были и чистопольские купцы братья Плясовы. Их дом, здание торговой лавки и хозяйственные постройки до сих пор в хорошем состоянии и могли бы украшать село. Могли бы, если бы нашлись средства на ремонт, это как всегда. А ведь сохранившаяся дата, выбитая в светлом камне, укрепленном в торце дома — 1887 год, свидетельствует о строительстве усадебного комплекса в одно время с реконструкцией церкви, и, как знать, может быть и здания усадьбы тоже дело рук архитектора Хрщоновича.
И огорчают, конечно, неточности в описании истории храма, уже увековеченные на большой, красивой и яркой, наверное, дорогой памятной доске, укрепленной слева от входа Воскресенской церкви. Разобраться с историей храма помог мне известный казанский краевед, историк Сергей Павлович Саначин.
Первую, еще деревянную церковь, поставил на этом месте внук первого владельца Змиевских земель, Степана Ивановича Змиева — Иван Герасимович Змиев. Это произошло между 1692-м и 1694-м годом во время основания села Воскресенское, Змиево городище тож. Далее в «Историческом описании имений господ Толстых», тоже входящих в разные годы в число владельцев села, мы читаем:
«По кончине Ивана Герасимовича Змиево городище перешло к сыновьям его стольнику Федору и бригадиру Андрею Ивановичам… А с 1738 года по кончине же Федора Ивановича осталось в единственном наследии Ставропольского коменданта бригадира Андрея Ивановича Змиева».
Вот этот самый Андрей Иванович Змиев и озаботился постройкой каменной церкви взамен пришедшей в ветхость, а, возможно, и сгоревшей, деревянной. Датой постройки каменной церкви считается 1742 год. Село дробилось между наследниками, части его передавались по наследству, продавались, скупались. Среди его владельцев были и казанский вице-губернатор Василий Борисович Толстой, и богатый московский откупщик Петр Тимофеевич Бородин, и известный уральский горнозаводчик Прокофий Акинфиевич Демидов, и фаворит и камердинер Екатерины II Александр Игнатьевич Сахаров, пока, наконец, в 1854 году всем имением единолично не завладела Александра Николаевна Стрекалова, по отцу княжна Касаткина-Ростовцева, невестка Казанского военного губернатора Степана Степановича Стрекалова. Считается, что свой род Касаткины-Ростовцевы ведут от самого Рюрика, князя Новгородского. Помните в «Иване Васильевиче»: «Рюриковичи мы!» Интересно, что в ее генеалогическом древе в графе профессия стоит — кавалерственная дама.
Александра Николаевна Стрекалова — известнейшая московская, российская благотворительница, основательница и попечительница многочисленных благотворительных обществ. Она попечительствовала над Яузской школой Московского благотворительного общества, заведовала Басманным отделением Дамского попечительства для бедных, основала Общество распространения полезных книг с собственным издательством и типографией, (возможно, и ее книги были в народных читальнях, устраиваемых чистопольским земством), Мужской исправительный приют, Общество поощрения трудолюбия. На свои средства построила Больницу для хронически больных женщин, основала Фонд удешевленных обедов для студентов — это ей мы, бывшие студенты 70-х и 80-х годов, должны быть благодарны за студенческие комплексные обеды за 50 копеек в студенческих, общедоступных, между прочим, столовках, а в университетской, той, что была на Ленина, Кремлевской, простите, если кто помнит, комплекс вообще стоил 40 копеек. Это она организовала Попечительство для недостаточных учениц Московской консерватории, Женский исправительный комитет и Приют для детей, родители которых в тюрьме. Открыла первую Народную кухню, Александровское убежище для увечных и престарелых воинов, выстроила Дом Воспитания. Все благодеяния этой дамы, включая открытия ночлежных домов, чайных и столовых для бедных, школ и мастерских для портних и закройщиц, пекарен, все ее добрые дела невозможно перечислить в рамках этой статьи, но помнить о них — нужно. Именно, и в основном, на ее средства была проведена перестройка Воскресенской церкви в Змиево, при ней храм принял, чуть не написал, свой теперешний облик. Конечно нет, до своего разорения в послереволюционные времена он блистал красотой и благолепием. В 1882 году Александра Стрекалова заказала проект реконструкции Льву Казимировичу Хрщоновичу. Строительство по доверенности Александры Николаевны курировал, читай вел, управляющий ее имением Иван Панин. Реконструкция была завершена в 1883 году, о чем свидетельствует, как пишет Сергей Павлович Саначин, сохранившаяся в храме памятная каменная плита (чего-то я ее не нашел).
Да, проводящаяся реконструкция храма, безусловно, дело благое, но есть ли сегодня тот меценат, тот благотворитель, который понимает всю меру ответственности начатой работы, который сможет заказать и проект реконструкции, и неукоснительно следовать этому проекту. Чтобы сохранились уникальные фрески на стенах храма, был восстановлен в первоначальном виде изумительной красоты иконостас, исчезли бы пластиковые рамы, и храм вновь стал бы не только храмом религии, но и храмом великого русского православного церковного искусства.
Спасибо за помощь старшему научному сотруднику Музея Пастернака Рафаилу Хамитовичу Хисамову. Особая благодарность Сергею Павловичу Саначину за возможность использовать его, поистину бесценные, изыскания по истории нашего Закамья.
Храм настолько красив, даже в его сегодняшнем состоянии, и я так часто его фотографировал, что все фотографии, конечно, не поместятся в формат этой статьи, так что придется писать продолжение:
КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ (продолжение)
#нашчистополь #историявоскресенскойцеркви
В первой части статьи я рассказывал историю появления храма Воскресения Христова, или, как его еще называют — Воскресенской церкви в Змиево. Обещал разместить фотографии, сделанные в этой церкви. Вот они. Но что-то мне не хочется выглядеть уж полной невеждой в церковной иконографии, поэтому пришлось немного подучиться.
Над входным порталом трапезной действительно находится изображение центральной темы христианского искусства — изображение казни Иисус Христа. казни через распятие. Сфотографировать ее практически невозможно, так как изображение размещено на межоконном столбце и по верху световых проемов, и льющийся через них свет не позволяет сделать сколь-нибудь приличную фотографию, разве что прийти ночью с осветительным оборудованием. Но я думаю, что уже достаточно заинтриговал читателей, и многие из вас сами доберутся до церкви и воочию увидят в том числе и эту роспись. А вот изображения орудий истязания плоти человеческой получились достаточно четко.
На противоположной стороне трапезной находится роспись, которую называют «Покров Пресвятой Богородицы» (Не забудем, что второй престол, тот, что слева, освящен именно в ее честь). Согласно описанию Дмитрия Ростовского, составленному в конце XVII века, мы видим Пресвятую Деву Богородицу, стоящую на воздухе и молящуюся, сияющую солнечным светом. Богоматерь сняла с себя омофор, который был на верху её головы, и держит его над молящимися людьми, при этом омофор сияет как лучезарное светило. Богородицу сопровождают ангелы и «сонмы всех святых».
Эта роспись очень важна для определения времени дошедших до нас фресок Воскресенского храма. Второй престол появился после реконструкции, выполненной казанским губернским архитектором Львом Казимировичем Хрщоновичем в 1882-1883 годах, значит и современная роспись храма была выполнена в это же время, таким образом в этом году росписям исполнилось 140 лет.
В главном зале храма, хотя, собственно, в церквях все помещения особенны и необходимы, все имеют свое предназначение и. соответственно, определенным образом расписываются, так вот, в зале, в котором установлен иконостас росписи, занимают всю площадь стен и куполов. Я смог разобрать предназначение и найти название только одной — она называется «Вход Господень в Иерусалим». В Евангелии от Матфея рассказывается, как Иисус въезжает верхом на осле в Иерусалим, где его встречает народ, полагая на дорогу одежду и пальмовые ветви и провозглашая осанну сыну Давидову.
Честно говоря, стены храмов изначально расписывались таким образом, чтобы молящиеся интуитивно понимали смысл каждой росписи, и мне было несколько неловко за свое невежество. Очень хотелось бы посетить этот храм с кем-либо из нашей чистопольской епархии, с тем, кто смог бы рассказать о сюжетах оставшихся, но еще различимых росписей.
Почему я так подробно описываю внутреннее убранство Воскресенской церкви? Да потому, что хочется оставить, сохранить, отреставрировать уникальные изображения, выполненные мастерами, жившими полтора века назад. Ведь алтарная часть церкви при ремонте уже утеряла подлинную роспись. Что бы вы сказали, если при ремонте знаменитых лоджий Рафаэля Папского дворца в Ватикане, известных еще под названием Галереи Рафаэля, были бы оштукатурены поверхности стен, а затем уникальные фрески были бы написаны заново?:
КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ (окончание, грустное)
#нашчистополь #историявоскресенскойцеркви
Завершая рассказ о Воскресенской церкви в Змиево, хочется еще раз напомнить о благих делах владельцев сего села.
Первую, еще деревянную церковь, поставил на этом месте внук первого владельца Змиевских земель, Степана Ивановича Змиева — Иван Герасимович Змиев. Это произошло между 1692-м и 1694-м годом во время основания села Воскресенское, Змиево городище тож.
В 1742 году сын Ивана Герасимовича — ставропольский комендант бригадир Андрей Иванович Змиев озаботился постройкой каменной церкви взамен пришедшей в ветхость, а, возможно, и сгоревшей, деревянной.
В 1883 году известная российская благотворительница, единственная на то время владелица села Александра Николаевна Стрекалова перестроила Воскресенскую церковь в Змиево. По проекту губернского архитектора Льва Казимировича Хрщоновича был перестроен входной портал церкви и возведен еще один придел, освященный во имя Покрова Пресвятой Богородицы. В это же время была обновлена уникальная внутренняя роспись храма. Считается, что в перестройке церкви участвовали также братья Плясовы, имеющие в селе свое подворье. Интересно было бы найти перечень домовладельцев села, чтобы понять, что делали чистопольские купцы Плясовы в Змиево. Их подворье и сегодня украшает ландшафт села, вернее дачного поселка.
Отступая от повествования о церкви в селе Змиево, вернее, предваряя рассказ о следующих владельцах села, можно вспомнить, что одна из дочерей Александры Николаевны Стрекаловой, Наталья Степановна, вышла замуж за светлейшего князя Андрея Александровича Ливен, будущего Московского губернатора и будущего министра государственных имуществ Российской империи. Так вот, именно с ним случилась прелюбопытная история.
Министерством государственных имуществ князь Ливен руководил с декабря 1879 года, а в 1883 году был вынужден уйти в отставку. Отставка была связана со скандалом, вызванным расхищением башкирских казённых земель — в 1870-е годы многие высшие чиновники, в том числе и сам Ливен, почти даром получили крупные имения в Уфимской губернии. По распоряжению императора Александра III ему было приказано подать прошение об отставке с поста управляющего министерством, а затем и члена Государственного совета.От своего имения в Мензелинском уезде Уфимской губернии он был вынужден отказаться. Параллели с сегодняшним днем проведите сами.
Александра Николаевна Стрекалова прожила долгую жизнь. После ее смерти, последовавшей в январе 1904 года, змиевские земли, по духовному завещанию, получили в наследство жена ее внука светлейшая княгиня Александра Петровна Ливен, правнучка — княжна Мария Александровна и правнуки князья Андрей и Петр Александровичи Ливен.
Александра Петровна Ливен продолжила традиции русского дворянства — она попечительствовала Змиевскому земскому училищу. Попечители народных земских училищ избирались на сессиях земских собраний из числа авторитетных и уважаемых людей города и уезда. Основные усилия попечителей были направлены на укрепление материальной базы училищ, ремонту зданий, а также помощи в разбивке школьных садов и огородов. Дворяне — владельцы имений в Чистопольском уезде, как правило, избирались попечителями земских учебных заведений, расположенных в их селах.
Сама же Александра Николаевна Стрекалова при жизни являлась попечительницей Змиево-Новоселковского училища Больше-Толкишской волости. Можете себе представить, что в исчезнувшей ныне деревне Змиевские Выселки, или Новоселки, существовала земская начальная школа.
В 1897 году на землях экономии Александры Стрекаловой чистопольским земством было организовано Змиевское показательное опытное поле площадью 22 ½ десятин — чуть больше 22 гектар. Сохранилось его описание. «Поле располагалось на возвышенной местности и представляло собой ровную площадь с черноземным слоем до 12 вершков глубиной, (то есть более полуметра). Один клин засевали яровыми культурами, на другом проводились опыты с озимыми, третий находился «на пару». Оборудование, рабочая сила, инвентарь предоставлялись экономией. При опытном поле находилась и метеостанция». Опытное поле располагалось в районе нынешней Александровки и после национализации в 1919 году экономии, отошло к образованному Чистопольскому сельскохозяйственному техникуму, так что, можно считать, что именно опытное поле, расположенное на землях Стрекаловой — Ливен положило начало развитию агронауки в уезде.
Кроме Воскресенской церкви в Змиево, память о Александре Николаевне Стрекаловой сохраняется и в полуразрушенном, но, тем не менее, величественном здании Толкишской башни, стоящем на месте исчезнувшей деревни. Это все, что осталось от единственной в Казанской губернии каменной мельницы голландского типа, построенной Александрой Николаевной в 1847 году. Когда, года три-четыре назад я писал о этой мельнице, на статью откликнулись старожилы исчезнувшей деревни, которые вспоминали о каменных жерновах, лежащих у подножия башни еще в 70-е годы, и о преданиях своих дедов, рассказывающих о строительстве мельницы иноземными мастерами — «немцами», впрочем, в XIX веке всех иноземцев в народе «немцами» звали.
Возвращаясь к Воскресенской церкви, хочу сказать, что несмотря на то, что фотоматериалов о ее первоначальном облике очень мало, даже те, на которых запечатлен ее доремонтный облик говорят о том, что никаких бело-голубых спиралей на башенках-основаниях маковок куполов не существовало. В XVIII веке архитектура храмовых сооружений в нашем регионе была гораздо аскетичнее и строже, это прекрасно видно на примере еще сохранившихся остатков церквей в нашем Закамье. Видимо, здесь опять уместен бессмертный в России афоризм Виктора Степановича Черномырдина: «Хотели, как лучше, а получилось, как всегда». Ну, и, росписи, росписи. Их утрата будет невосполнимой потерей.
Не считайте эти слова кощунством, но при виде новых храмов часто возникает ностальгическое чувство по русской старине, вспоминается гениальный фильм «Страсти по Андрею», снятый Андреем Тарковским, сыном поэта Арсения Тарковского, проведшего во время эвакуации несколько месяцев в нашем городе, до отъезда на фронт. Фильм снят в монохромном варианте, как те старые церкви нашего Закамья, и только в финальных кадрах зритель увидит удивительные цвета фресок Ферапонтовом монастыря работы опять же Андрея, теперь Рублева. Наверное, чтобы увидеть и отобразить цвета истинной православной религии, видимо, надо сначала очистится от скверны, иначе опять выйдет аляповатый новодел.
И, напоследок, подарок от Ольги Игоревны Смирновой, разыскавшей в метрической книге змиевской Воскресенской церкви запись о крещении Александра Семенова, отце Ольги Бродацкой. Это подарок в память о ее муже, прекрасном человеке, поэте, музыканте, преподавателе, режиссере. актере, дирижере, руководителе созданных им театров, музыкальных коллективов, человеке, так много сделавшим для преобразования музыкальной и театральной атмосферы нашего Чистополя, человеке, изгнанного из города за его талант говорить правду со сцены, подарок в память о Евгении Бродацком. Сама Ольга Игоревна — профессиональный историк, краевед, потомок землевладельцев села Красный Яр — Смирновых и владельцев деревни Утяково — Юшковых, спасибо ей огромное.
Статья написана по материалам открытой печати и отражает точку зрения автора. Выражаю благодарность Надежде Геннадьевне Валеевой, Сергею Павловичу Саначину и Набиуллину Наилю Гатиатулловичу за возможность использования их материалов по истории чистопольского земства и истории землевладельцев Чистопольского уезда.
И, да, Воскресенская церковь в Змиево — вовсе не самый старый сохранившийся храм в нашем Закамье, есть еще более старая церковь, старше нашей на целых 10 лет. Но, о ней рассказ в следующий раз:
#нашчистополь #толкишскаябашня #яфотограф
Есть у меня любимая фотомодель. Преклонного, конечно, возраста, все-таки 177 лет в этом году исполняется, но до чего фотогенична! А какая усидчивая — стоит на месте и не шелохнется, не моргнет, не сдвинется. И не скажет никогда: «С этого ракурса меня, пожалуйста, не снимайте, тут я неважно выгляжу». Не попросит заретушировать дефекты на своей коже, убрать морщины и складки, чтобы восстановить былую красоту и обаятельность. Не потребует яркого задника, оригинального фона, специальной подсветки. Всегда довольствуется тем, что есть на момент съемки. Без излишних запросов к фотографу, без капризов и прочих причуд. Всегда в прекрасном настроении, никаких прихотей, никаких выкрутасов, никакого сумасбродства. Даже слово хандра ей неведомо. И всегда готова предоставить себя для фотоурока начинающему фотографу . Столько раз снимал ее, снимал днем и ночью, снимал на закате и на рассвете, снимал даже с подсветкой фарами своей машины, но стоит еще раз приехать, и руки сами достают камеру, и ты привычно ищешь взглядом точку съемки. Не все фото мои:
. Столько раз снимал ее, снимал днем и ночью, снимал на закате и на рассвете, снимал даже с подсветкой фарами своей машины, но стоит еще раз приехать, и руки сами достают камеру, и ты привычно ищешь взглядом точку съемки. Не все фото мои: