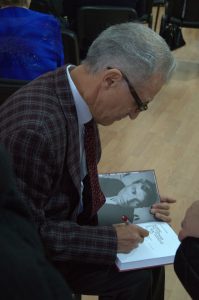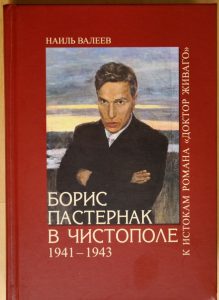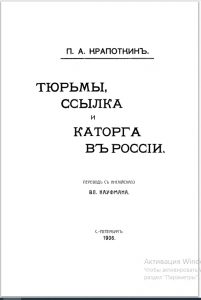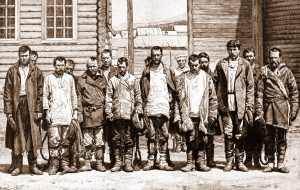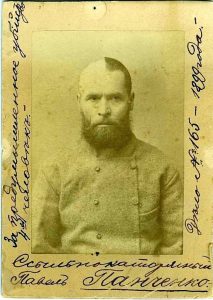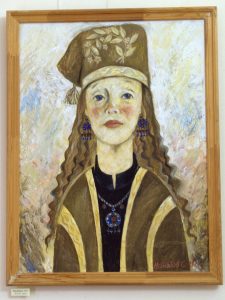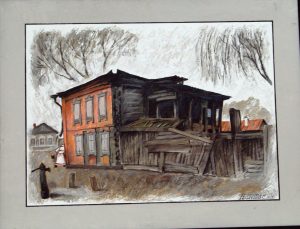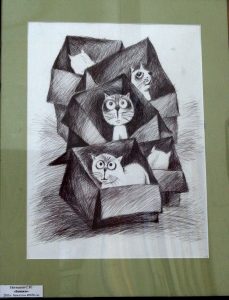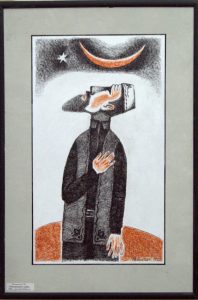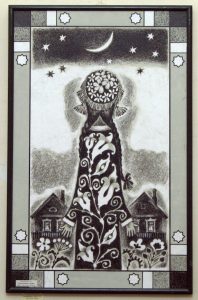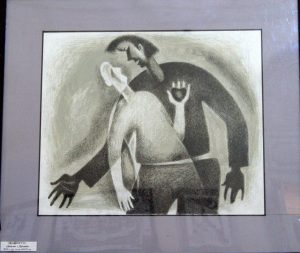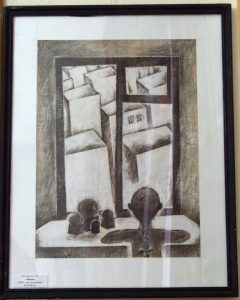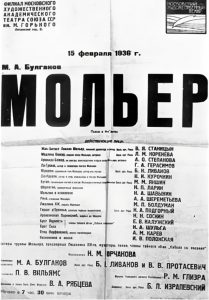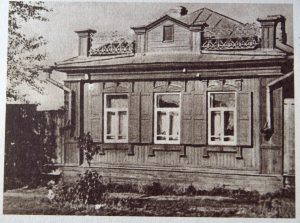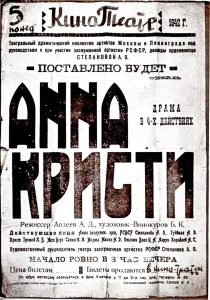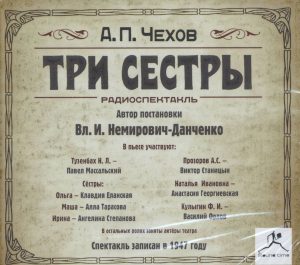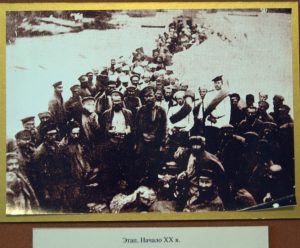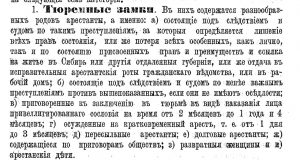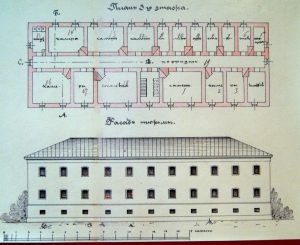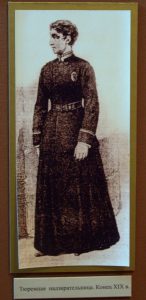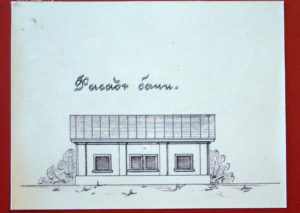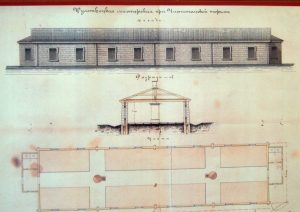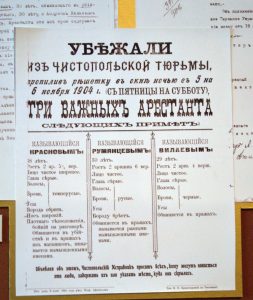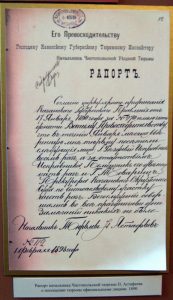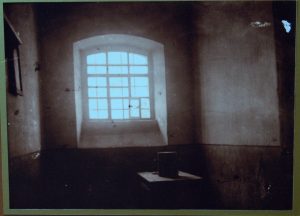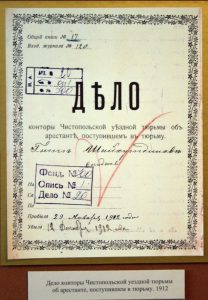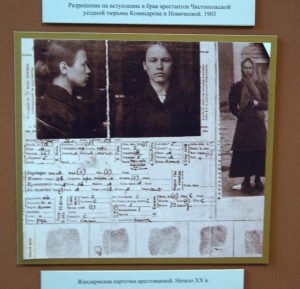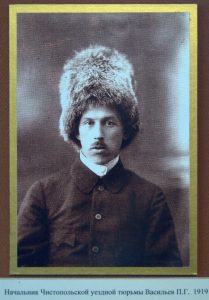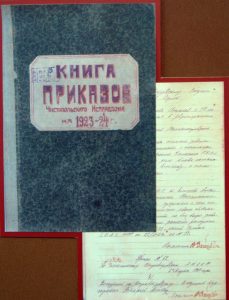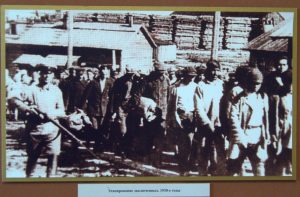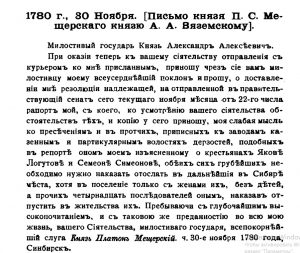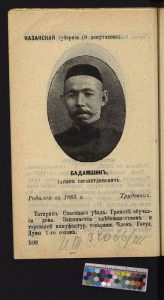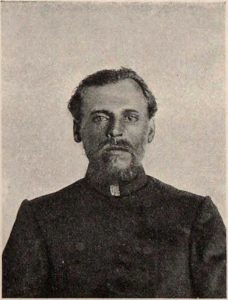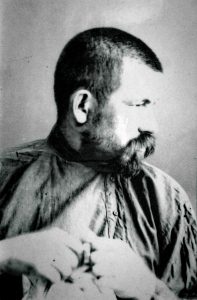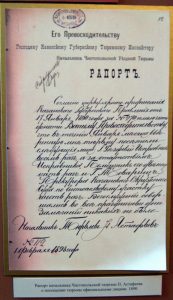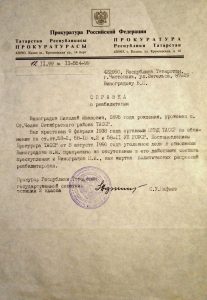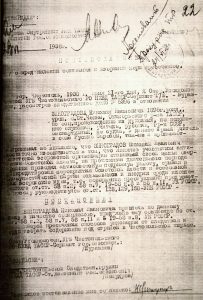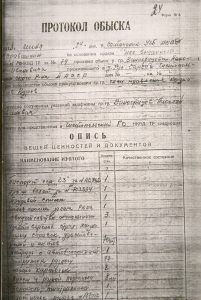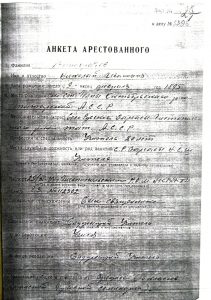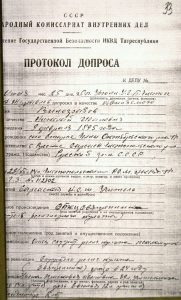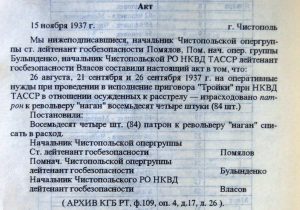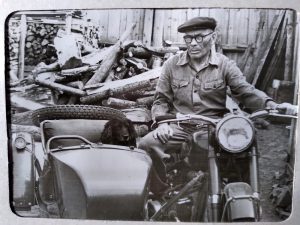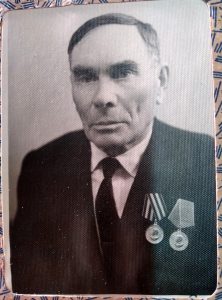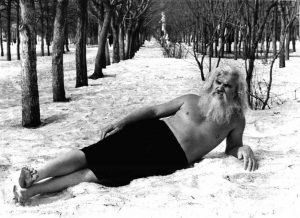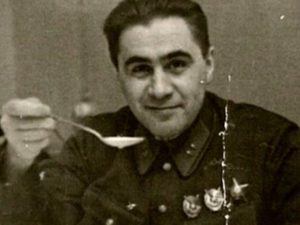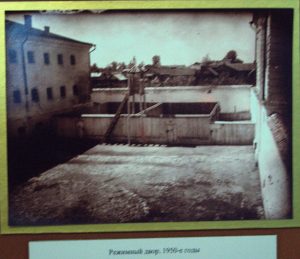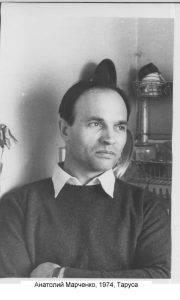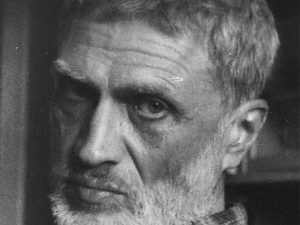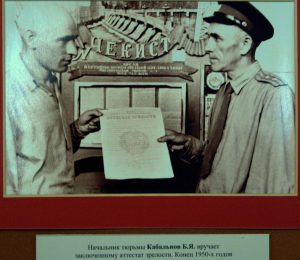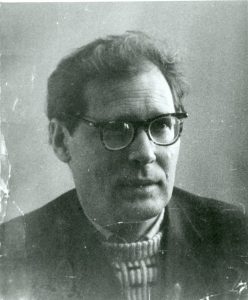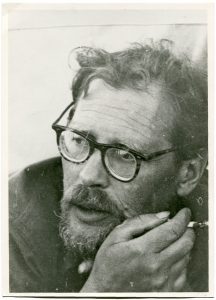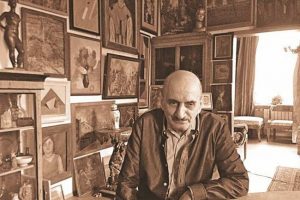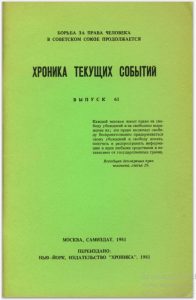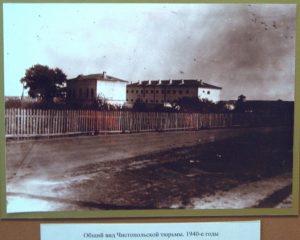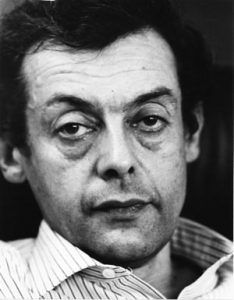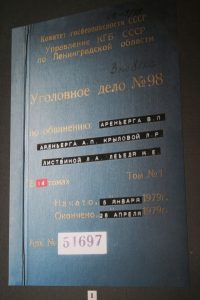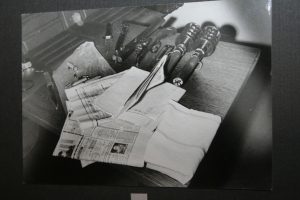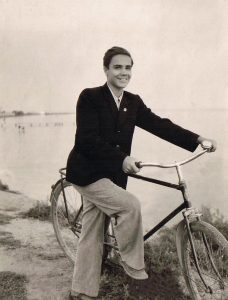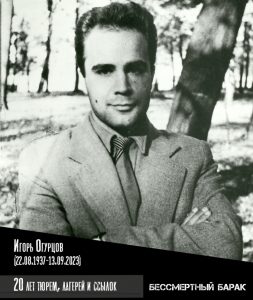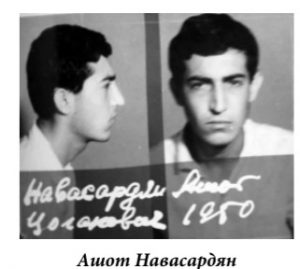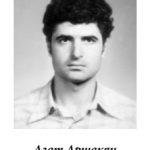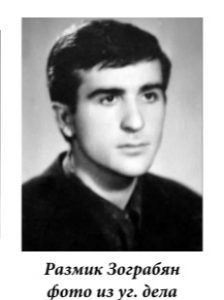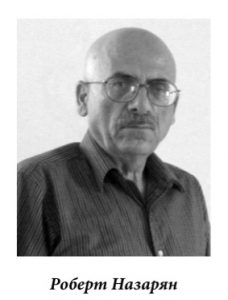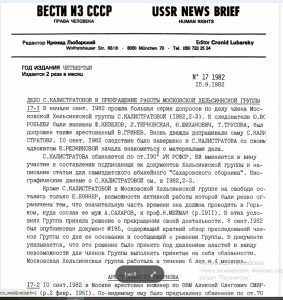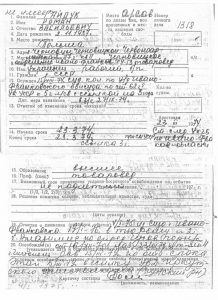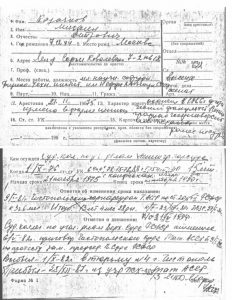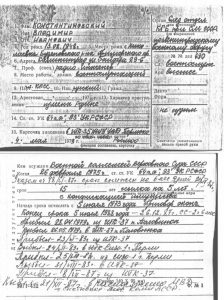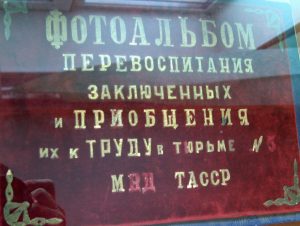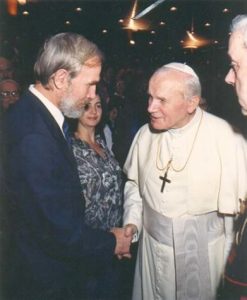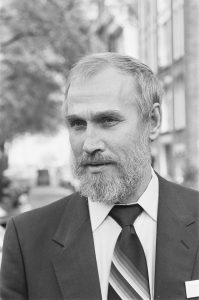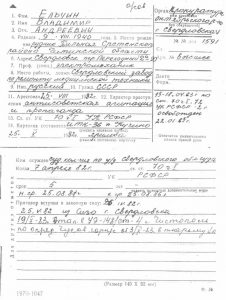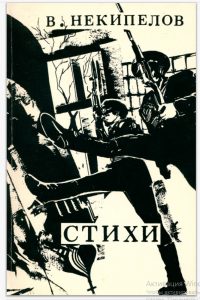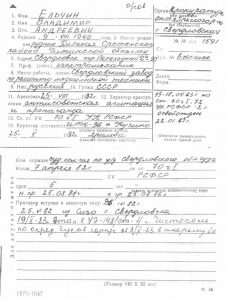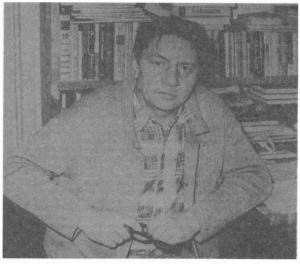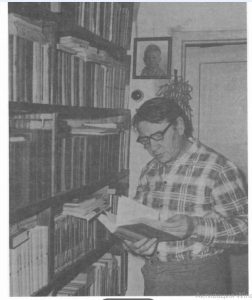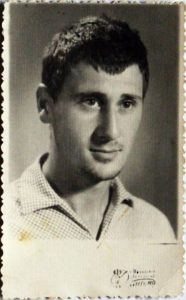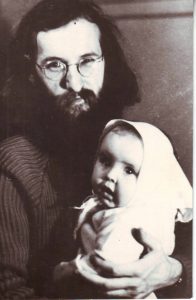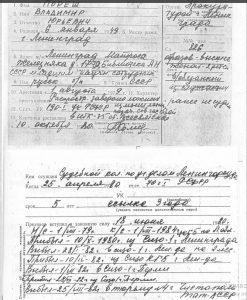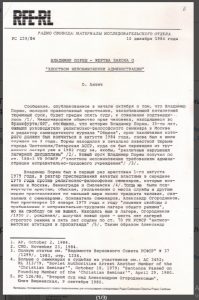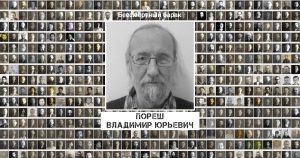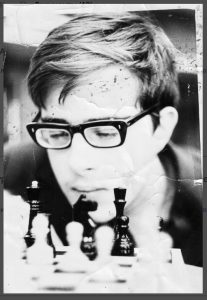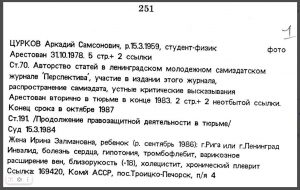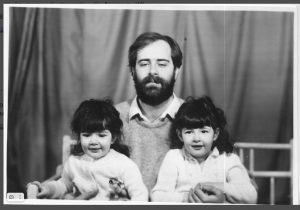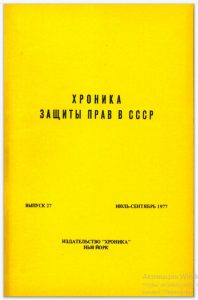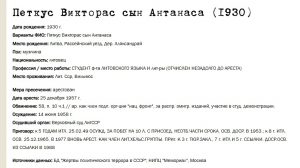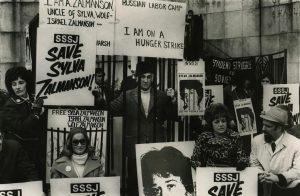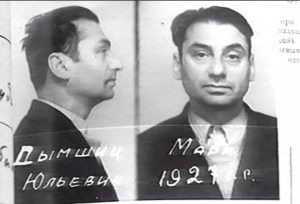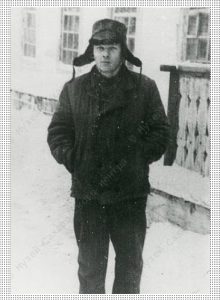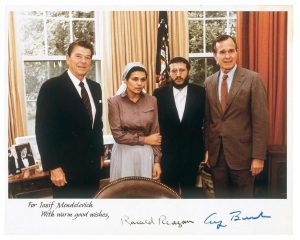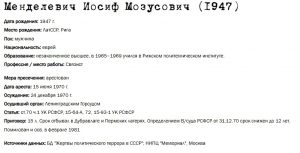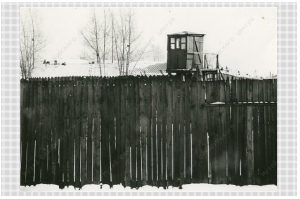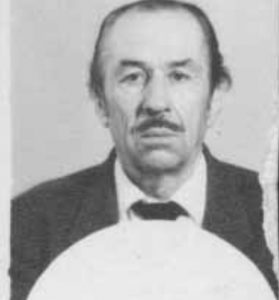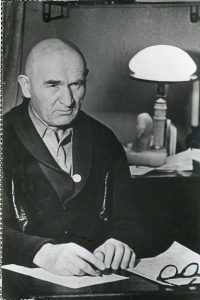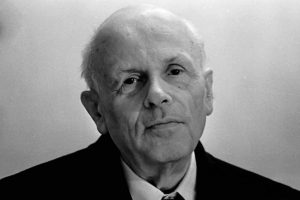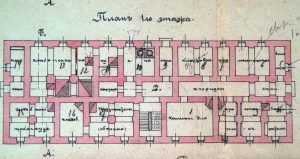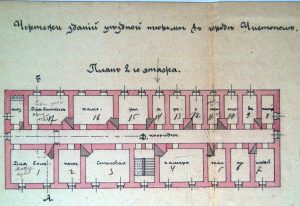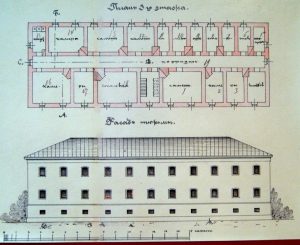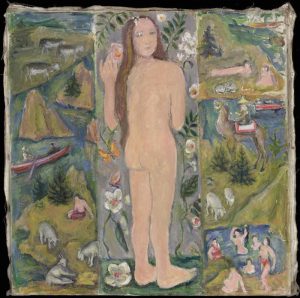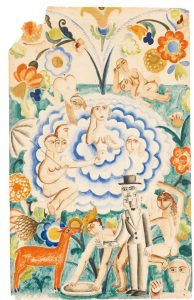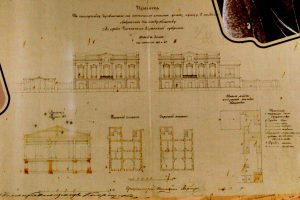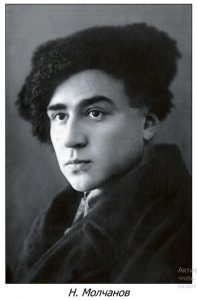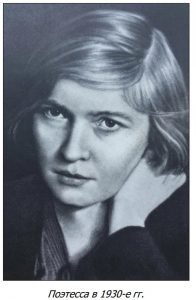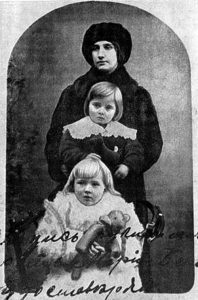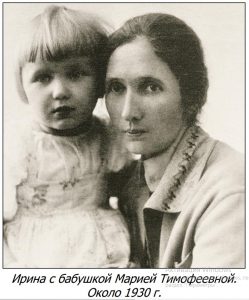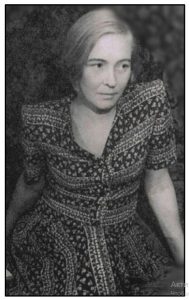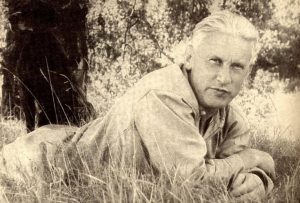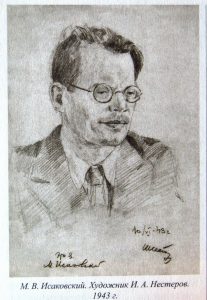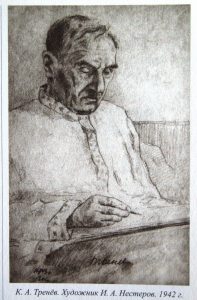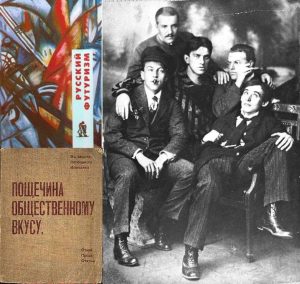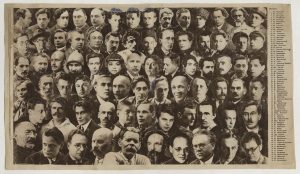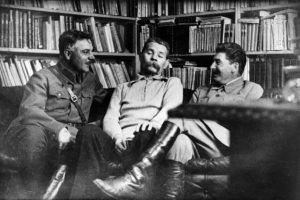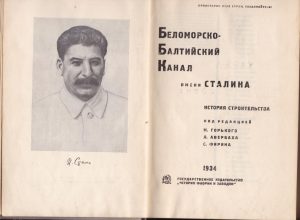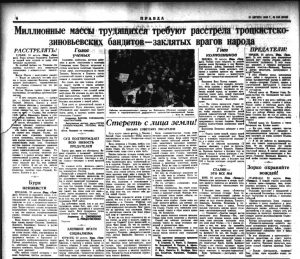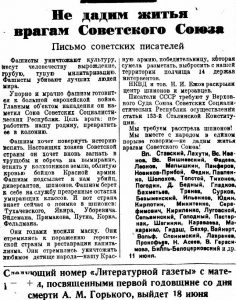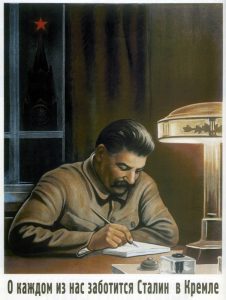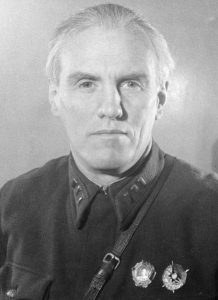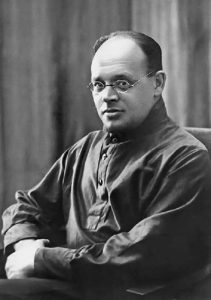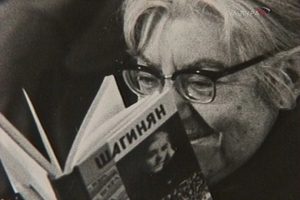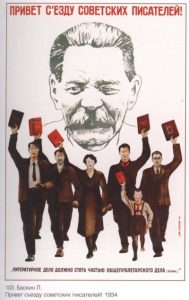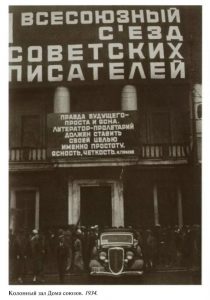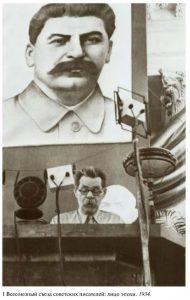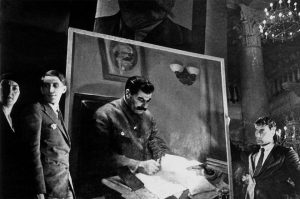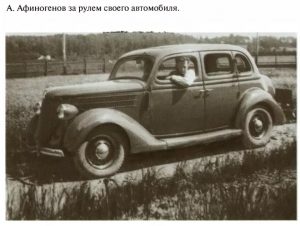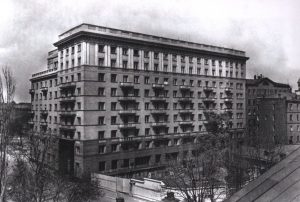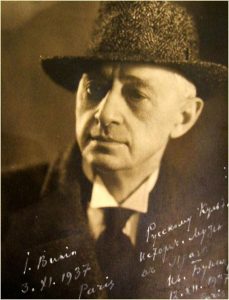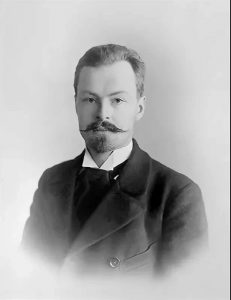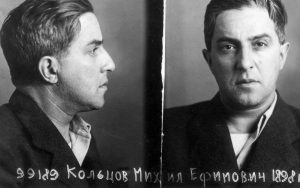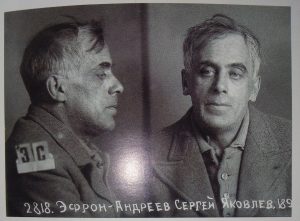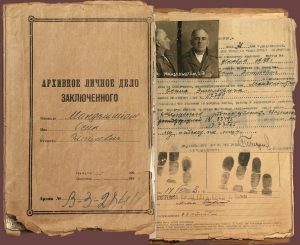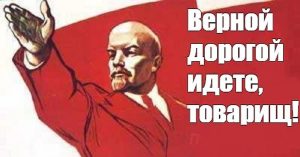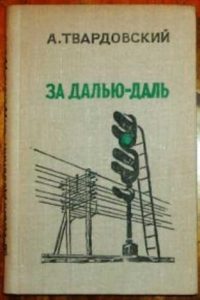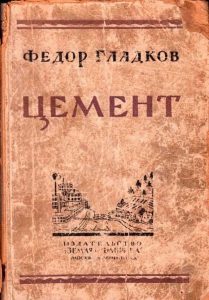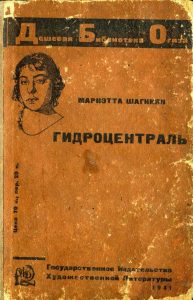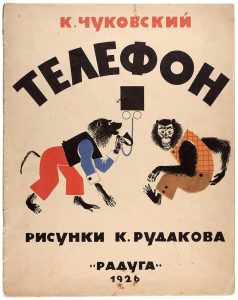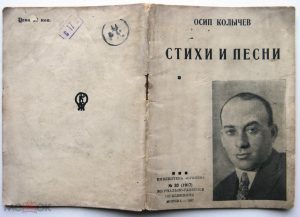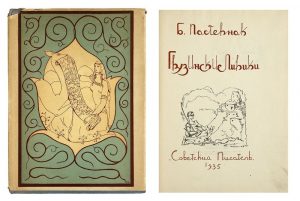Вперед назад за зелеными кроликами (тугриками)
#нашчистополь #красивыйчистополь
Все-таки интернет — великая вещь.
Думаю, все горожане с болью в сердце наблюдают за разрушающимися памятниками старины нашего города, признанными и непризнанными, но, по своей сути, являющимися объектами культурного наследия. А уж зданиями, формирующими аутентичную застройку уездного купеческого города — они точно являются. Всем нам много лет рассказывали о Проекте поддержки развития малых городов, о добром дедушке, который вот-вот придет, и даст денег на реконструкцию. Составлялись списки, озвучивались перечни зданий, перечни новых музеев, радостно потирались руки… Сначала в роли Деда Мороза выступал МВФ, потом один из банков БРИКС. Ну, не сегодня, так, точно, завтра, ну, в крайнем случае, послезавтра, но дождь из долларов, или евро, а может и юаней на Чистополь прольется. И тогда..! За эти годы, насколько помню — с 2014, уже 10 лет прошло, здания приходили в упадок, ветшали и рушились. Некоторые из них даже вылетали из списка по причине невозможности фасадной реставрации из-за плохого состояния, читай — аварийного. Эти здания было проще снести, чем отреставрировать. И вот, бродя по просторам интернета натыкаюсь на статью. «Банк БРИКС одобрил проект поддержки развития малых городов в РФ на 205 млн евро». Уря-я, все-таки свершилось! Смотрю на название сайта — tass.ru — государственная интернет-газета, нет причины не верить. Смотрю на дату — 1 июля 2020 года. А деньги-то тогда где?
Читаю дальше. «Новый банк развития (НБР) БРИКС одобрил предоставление России суверенного займа в размере €205 млн на социально-экономическое развитие, продвижение и сохранение культурного наследия восьми малых городов, имеющих историческое значение». Ну, да, это, должно быть, про нас. Еще дальше. «Как уточнил корреспонденту ТАСС вице-президент НБР Владимир Казбеков, одобренный проект по финансированию инфраструктуры российских малых городов и поселений с историческим наследием — логичное продолжение аналогичного первого проекта, реализуемого банком совместно с Министерством культуры РФ с 2018 года. Для участия в новом проекте отобрано восемь малых городов — Азов, Белёв, Галич, Елец, Зарайск, Касимов, Кинешма и Шуя». Ничего не понял — где же мы? Загадочные слова — «новый проект». Пытаюсь понять. «Это станет серьезным дополнением к списку городов, в которых уже началась реализация «первой очереди» проекта. В нее входят Торжок, Выборг, Гороховец, Чистополь, Ростов Великий, Суздаль, Старая Русса, Арзамас и Тутаев», — сообщил он (вице-президент). Ага, вот он, наш список, помню. « Банк БРИКС уже выделял средства на первый проект развития ряда малых городов с историческим наследием. Это было в мае 2018 года, тогда России перечислили 220 миллионов долларов».
Вот оно как. Значит, мы были первоочередниками, и свое финансирование уже получили еще в 2018 году. Поскольку, мы, видимо, уже все запланированное отреставрировали и восстановили, во вторую очередь, или второй проект, мы не попали, впрочем, как и наши соседи по «нашему» списку. (Интересно было бы посмотреть на эти города). Сочувствую Азову, Белеву, Галичу, Ельцу, Зарайску, Касимову, Кинешме и Шуе — участникам «нового проекта». Пусть приедут, посмотрят на наш Чистополь, участника «первой очереди проекта». А слова-то какие правильные. «Проект предусматривает не только комплексное улучшение городской среды и инфраструктуры, но также восстановление исторических объектов, повышение туристической привлекательности, создание условий для развития малого и среднего бизнеса. Идет подготовка списка объектов, восстановление которых может быть профинансировано. Интересные и перспективные объекты есть в каждом из городов», — уточнил вице-президент НБР Владимир Казбеков.
Сильно похоже, что проект БРИКС, на который было возложено столько надежд, проплыл мимо Чистополя. Теперь, видимо, нам будут рассказывать о новом проекте, рассчитанным до 2030 года — это «Национальный проект развития малых городов».
«Особое внимание уделяется развитию малых городов и исторических поселений ( к слову, границы «Исторического поселения Чистополь, поселения федерального значения, насколько я знаю, до сих пор не утверждены). Многие проекты там реализуют по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды — благодаря ему улучшается облик населённых пунктов, создаются новые места для отдыха и занятий спортом, туристические маршруты. Конкурс проходит с 2018 года по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». За это время в регионах уже благоустроены более 700 территорий, в том числе парки, улицы и пешеходные зоны, набережные и площади. «Это даёт импульс для развития малого и среднего предпринимательства, появляются новые рабочие места, что качественно меняет условия и образ жизни людей. Они остаются жить и работать в небольших городах», — отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.» Это цитата из центральной прессы, и она нам до боли знакома.
Вот, похоже, в рамках этого проекта в Чистополе появился нижний парк «Набережная Кама» (есть среди читателей преподаватели русского языка?), городской бульвар по К.Маркса, новый облик центральной площади и сегодня активно достраиваемая «Набережная завтрашнего дня» под названием «Глагол». В рамках этого проекта выигран и тендер на реконструкцию центральной части города — улицы Ленина. Будем посмотреть. Предыдущие исполнения обсуждаемых с горожанами проектов дают поводы для скепсиса.
Главного в проекте я так и не нашел. Не нашел финансирования реконструкции зданий, формирующих архитектурный облик исторической застройки центральной части города. Похоже, спасение утопающих, как всегда, дело рук самих утопающих. Иначе, будем жить в городе с хорошими дорогами, заасфальтированными дворами, что, конечно же, тоже важно, благоустроенными парками, скверами, набережными, что тоже неплохо, если не обсуждать сейчас их внешний вид, но…Как же сам Чистополь, бывшая столица хлебного Закамья? Сохранит ли исторический центр свой внешний вид уездного купеческого города, вернее, сегодня впору спросить, сможет ли он его восстановить?
На фотографиях ОКН, входящие в первоначальный перечень зданий, реконструкция которых планировалась по программе, финансируемой НБР БРИКС.
Оставь же землю. Время плыть без курса.
Крошиться камень, ложь бормочет тускло.
Но, как свидетель выживший, искусство
Буравит взглядом снега круговерть.
Бредут в моря на ощупь устья снова.
Взрывает злак мощь ледяного крова.
И лёгкое бессмысленное слово
Звучит вдали отчётливей, чем смерть.
Томас Венцловы «Памяти поэта». Перевод Иосифа Бродского:
Как это было.
#нашчистополь
Вчера в большом зале Музейно-выставочного комплекса Музей-Заповедник Чистопольский-Государственный прошла презентация новой книги Н. М. Валеева «Борис Пастернак в Чистополе. 1941-1943». О книге, безусловно, будут говорить, будут спорить. Будут и гневные отклики, да, собственно, они уже есть, докатываются даже до меня — многие литературоведы, исследователи творчества Бориса Леонидовича имеют на «роман века», как его вчера называли, свое мнение. И это правильно — искусство всегда субъективно. В спорах рождается истина. Ах, если бы только в спорах. Но, что странно, а может, и обычно, книгу-то Наиля Мансуровича Валеева, его оппоненты еще и не читали. Прочтите, это книга уникальна уже тем, что в ней собрано огромное количество документов, свидетелей той военной поры, когда Чистополь превратился в филиал Союза писателей СССР. Еще одна очень важная сторона нового исследования «пастернаковского сидения» в Чистополе — новый взгляд на разношерстную колонию писателей и поэтов, которые волею судьбы, а вернее, войны, оказались в нашем городе. Это взгляд беспристрастного критика, искреннего и честного человека, который, вероятно, впервые, на страницах печатного издания, прилюдно развенчивает миф о «великих, значительных, признанных и успешных» писателях, на два года запертых в Чистополе. Успешных — да, но какой ценой и какими средствами? Послушность воле функционеров от литературы, послушность следования постулатам соцреализма — вот цена их успешности.
Цитата из книги. «Наверное, Асеев и другие понимали подлинное величие Пастернака. Их наследие преходяще, осталось только на страницах литературы как маленькая вешка, известная лишь узким специалистам. Пастернак же — классик мировой литературы, навсегда, его имя известно каждому интеллигентному человеку… Его заслуженная поэтическая слава вызывала жуткую зависть у многих коллег, пристроившихся к государственной кормушке и имевших квартиры и дачи с обслугой, огромные гонорары. премии и награды. Это особенно отчетливо проявилось в дни Нобелевской вакханалии вокруг Пастернака, когда СУРКОВЫ-ОШАНИНЫ-АСЕЕВЫ (выделено мной, все «чистопольцы») и иже с ними с радостью травили выдающегося поэта. Каждый из них считал себя гением, а Пастернака при каждой возможности старались выставить на посмешище, как юродивого, не от мира сего. Но время все расставило по своим местам.
Да, нет. Время не все расставило по своим местам. По-прежнему можно слышать преувеличенные оценки творчества тех, кто прятался за мантией поэта, по-прежнему звучат слова «великие, значимые, известные всему миру и стране». Мне кажется, надо помнить, как это было.
И еще. Есть великолепный ресурс, который я с удовольствием читаю и слушаю. называется «Старое Радио». Буквально вчера на его страничке я услышал голос современника Бориса Леонидовича, человека, жившего и творившего в ту же эпоху, пусть более молодого, но, несомненно, Поэта, несомненно Гражданина своей страны Поэта и Гражданина с большой буквы. Это Александр Галич говорил о Пастернаке. Называется сюжет — «Десять минут счастья».
А поводом была фотография. Эта фотография была снята 28 октября 1958, в тот день, когда Пастернак узнал, что получил Нобелевскую премию. Было чудесное застолье, пили вино, угощались тбилисскими фруктами, и, смеясь, обсуждали, что нужно шить фрак.. А через 10 минут в этот счастливый мир, запечатленный на фото, войдет Федин и скажет, что Пастернак должен прийти на дачу к Поликарпову, который объявит ему, что по решению советского правительства он должен отказаться от премии. http://svidetel.su/audio/1806
Так это было.
Федин Константин Александрович — в 1941-1943 годах уполномоченный Союза советских писателей СССР в Чистополе. Именно так звучала в приказе его должность. С 1947 по 1955 годы Федин — руководитель секции прозы, а затем председатель правления (1955—1959) Московского отделения Союза писателей СССР. Первый секретарь (1959—1971) и председатель правления (1971—1977) СП СССР.
Поликарпов Дмитрий Алексеевич. Советский партийный и государственный деятель, заведующий отделом культуры ЦК КПСС
P. S. На фотографиях мои зарисовки из зала. Парадных фотографий делать не люблю:
Приглашение к разговору — 2
#нашчистополь #романвека
Почему такое название? Просто потому, что хочется откровенного разговора о романе Бориса Леонидовича Пастернака — «Доктор Живаго». А приглашение-2 потому, что первое приглашение к разговору уже было, было после прекрасного спектакля «Мне имя Марина», созданного двумя Иринами — Ириной Пискуновой, режиссером спектакля, и Ириной Тякмаевой Ирина Тякмаева, блестяще воплотившей на чистопольской сцене образ Марины Цветаевой. В тот раз к разговору подключились многие любители поэзии, ценители творчества Марины Ивановны и исследователи ее непростой жизни. Было очень интересно.
Цветаева и Пастернак — два равновеликих поэта, два, бесспорно, гения стихотворной строки, две звезды на поэтическом небосклоне. Строки Цветаевой о Борисе Леонидовиче: «Думаю, дар огромен…Пастернак — большой поэт. Он сейчас больше всех: большинство из сущих было. некоторые есть, он один будет». Но это все поэзия, поэзия. А хотелось бы поговорить о прозе.
Сейчас меня побьют, но я все-таки скажу свое мнение, хотя это может быть, сознаю, и признание в собственном невежестве.
Я, конечно, прочел «Доктора Живаго», прочел в 88 году. Это был, конечно, журнал «Новый мир», носитель свободных мнений. Тогда о романе заговорили все, тогда стала известна подноготная гонений на писателя, попавшего из-за него в опалу. Тогда мы все, или почти все считали, что страна движется к свободному демократическому обществу, что можно свободно, не боясь, говорить о том, что ты думаешь. Говорить не на кухне своим друзьям, а на улицах, в обществе незнакомых людей. Говорить, спорить, горячиться и доказывать. Это было наслаждение — искать истину. Искать свободно и безнаказанно.
Читал я не быстро — роман оказался тяжелый, непростой. И, хотя я знал вкратце его содержание, продирался через его страницы с большим трудом. Обилие отвлечений меня путало. Стихотворные строки, пронизывающие роман, казались мне ненужными. Возможно, бешеный ритм жизни той поры, интересная работа, занимавшая все время, возраст, не предполагавший философского спокойствия и неспешного раздумья над смыслами, зашифрованными, спрятанными в романе, все это не позволило не только насладиться чтением, но и прочувствовать гениальность «романа века», как его иногда называют. Уже появились «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова, буквально, проглоченные мной с гораздо большим интересом, вновь заговорили и извлекли на свет «Матренин двор» Солженицына, напечатанный в далеком 63-м году, в том же, спасибо ему, «Новом мире». Повести страшной, пронзительной и способной потрясти читателя до глубины души. Короче говоря, не сложилось у меня впечатление, что «Доктор Живаго» — эпохальный роман.
Но, Пастернак и Чистополь. Это же невероятно. Он здесь жил. Он здесь работал. Он здесь писал, переводил, создавал. Здесь он собирал материал к роману, насыщался впечатлениями от живых свидетелей эпохи, как это ни громко сказано. Здесь, в Чистополе, его музей. Может я ничего не понял в романе? Обычно я стараюсь прислушиваться к мнению профессионалов. А профессионалы, работающие в Музее Пастернака, профессионалы, которых я чту и уважаю, говорили мне, что роман «Доктор Живаго» действительно велик, но не дается тому, кто решил прочесть его впопыхах, не то это чтиво.
Но, вот один пример. Собираясь на презентацию книги Наиля Мансуровича Валеева «Борис Пастернак в Чистополе», я позвонил своему приятелю, чтобы пригласить его на встречу. В его голосе энтузиазма не было. Нет, он эрудированный человек, его интересно слушать, с ним интересно говорить. И роман он, как когда-то и я, прочел. Но… «Как ты думаешь, сколько человек из пришедших на презентацию, прочли сам роман?» — неожиданно спросил он. Я предположил, что уж половина-то пришедших точно прочла. Он оказался бОльшим пессимистом.
Еще один пример. Совсем недавно прогуливались мы по нашему Чистополю с еще одним публичным человеком, известным журналистом, лауреатом премии «Тэфи». Разговор зашел и о новой книге Наиля Мансуровича, обоим нам хорошо знакомого. В широте кругозора, прекрасном образовании, эрудиции, в умении мыслить, в точности изложения, моему собеседнику отказать нельзя, но, говоря о романе он осторожно высказался в том плане, что роман не каждому дается. Вот и ему, как и мне, «не зашло», как это сейчас очень точно называется. Может быть из-за того же стремительного ритма жизни, съедающего все свободное время. Нет, значимости этого произведения, его воздействия на читающую, слышите — читающую! публику он, конечно, не отвергал. Но — «не зашло». Возможно, «Доктора Живаго» надо было читать, отрешившись от повседневной суеты, закрывшись в комнате с плотно зашторенным окном и выкинув из головы мысли о окружающих бедах и надвигающихся проблемах? Но разве такое возможно думающему человеку?
Каюсь, к презентации я не успел полностью прочесть подаренную мне автором книгу. Так сложилось, что у меня последнее время в чтении сразу две, а то и три произведения. Хочется многое успеть, многое сделать. Но даже та часть, которую я успел прочесть, открыла мне глаза на многое в понимании той страшной эпохи. О некоторых мыслях и выводах автора применительно к «великим и всемирно известным» я рассказал в предыдущем посте, а вот об отношении современников, вернее современника Бориса Леонидовича, которого сам Пастернак ценил и уважал за талант и умение писать, пожалуй, стоит рассказать. Речь идет о отзыве Александра Гладкова на роман «Доктор Живаго». Борис Леонидович в свой чистопольский период был очень дружен с Александром Константиновичем. Да и позже, в Москве, они не раз встречались, вместе проводили время за неспешными беседами, вместе смотрели на сцене Центрального Театра Красной Армии постановку пьесы Гладкова «Давным-давно», можно сказать, дружили. Так вот. Гладков о романе Пастернака высказался предельно откровенно.
Цитата из отзыва Гладкова, которую привел и Наиль Мансурович Валеев в своей книге, простите, что большая, но это важно.
«В «Докторе Живаго» есть удивительные страницы, но насколько бы их было больше, если бы автор не тужился сочинить именно роман, а написал бы широко и свободно о себе, своем времени, своей жизни.
Пастернак рассматривал «Доктора Живаго» как свое главное и в каком-то смысле итоговое произведение, и естественно, что роман вобрал в себя весь художественный и интеллектуальный опыт писателя…
Мне кажется, что беда Б.Л. в неверном выборе жанра для того большого сочинения в прозе, к которому его так тянуло всю жизнь. Вместо того, чтобы, как Толстой, самому найти естественную и единственную для себя форму большого эпического произведения, или, как Герцен, создать свою неповторимую и сложную по форме книгу-исповедь, Б.Л. взял форму, чуждую своей индивидуальности. ..Вероятно, Б.Л. хотел написать именно роман для того, чтобы его книга нашла более широкую и, так сказать, более демократическую аудиторию, чем труд исповеднически-философский или чисто мемуарный… Б.Л., желая высказать в прозе свои заветные мысли и наблюдения, но избрав для этого форму традиционного романа, так сказать, для завоевания галерки, пал жертвой ложного стремления к занимательности, доступной драматичности, фабульности.
Все национально-русское в романе как-то искусственно сгущено и почти стилизовано… Это почти условная и очень экзотическая Россия самоваров, религиозных праздников, рождественских елок, ночных бесконечных бесед; стилизованная эссенция России. Не потому ли так велик был успех книги за границей? Она вышла к тому времени, когда к традиционной загадке «славянская душа» прибавилась загадка большевистской России, выигравшей страшную войну и еще одна суперзагадка культа Сталина. Принятая за ответ на эти загадки-вопросы, книга не отвечает по-настоящему ни на один из них. Ни одна из сторон русской жизни описанного времени не показана в ней верно и полно…
Пастернак написал отличную прозу, но прозу иного рода, в жанре же традиционного романа он потерпел обидное поражение.
Много можно сказать об этой необычайной книге, такой внутренне противоречивой, пестрой и ненужно-сложной. Как писательский поступок, она мужественна и героична, моральные предпосылки ее безукоризненны, но художественный результат — двусмыслен и спорен.»
Вот подписываюсь под этими словами полностью. Ни прибавить, ни убавить! И пускай я с галерки, но, тем не менее, и для нее роман во многом сложен. А партер, скажете вы. Ведь именно партер предназначен для знатоков и ценителей литературы. Что говорит партер? Но, оглянитесь вокруг, много ли истинных авторитетов, действительных экспертов и подлинных литературных эрудитов занимают там места? Сколько в этих мягких и удобных креслах уселось людей, желающих приобщиться к избранным мастерам прозы, посверкать в отблеске чужой славы. Сколько их, следуя велению, нет, не времени и не своей совести, а услышав указания, почуяв намеки и разглядев шевеление бровей руководителей всех рангов, послушно откликаются своим, мягко говоря, творчеством. Как выяснилось, в наше время, впрочем, как и во все времена, чтобы оказаться в партере надобнее быть не талантливым, а пробивным, уметь толкаться локтями и говорить в нужном месте, в нужное время, нужные слова.
Те, кто на галерке, те, по крайней мере, честнее. Как минимум уважения заслуживает произведение, о котором пишут и говорят вот уже почти восемьдесят лет. Его можно не понять, вернее, не принять, но отрицать воздействие, которое роман «Доктор Живаго» оказал на широкие круги советских (все мы родом из СССР) и, что не менее важно, иностранных читателей, невозможно.
И еще одна цитата Александра Гладкова. « Будем же любить своих избранников зрячей и не рабской любовью: это тоже один из его (Пастернака) великих уроков»:
Кандальный звон. История одной ошибки.
#нашчистополь #экскурсиипочистополю
Как-то раз ходили мы с приехавшими из Казани гостями нашего города по местам, с которых начинался Чистополь. К счастью, маленький кусочек старого города, с его кривыми улочками и переулками, сохранился, находится он в районе бывшего Узенького переулка, сегодня — Демьяна Бедного. Когда-то улицы нашего города не отличались современной прямолинейностью, но пожар, бушевавший в Чистополе в конце 1790-х, уничтожил центральную часть, и, не было бы счастья, да несчастье помогло — сегодня в центре мы видим перспективу современных улиц. Спустились мы и на, пожалуй, единственную улицу, сохранившую свое первоначальное название до нашего времени — на Кузнечную. Рассказываю, откуда взялось ее название, чем занимались жители Кузнечной (хотя и так понятно чем), показываю сохранившийся фрагмент булыжной мостовой, что на перекрестке Солдатской и Кузнечной, рассматриваем наличники на доме Серебрякова, поверьте, есть на что посмотреть, и вдруг одна дама говорит: «Что-то мне не по себе, как-то поплохело». «Что случилось?», — спрашиваю. «Кровью пахнет, страданиями», — отвечает она. И тут я вспоминаю, что почти до конца XIX века каторжан гнали по этапу, закованных в кандалы. Снимали их только перед этапными тюрьмами. А знающий все о Чистополе Рафаил Хамитович Хисамов рассказывал мне, что у кузнеца Серебрякова был патент на перековку узников. Неужели страдания кандальников стопятидесятилетней давности мистическим образом отозвались в душе моей гостьи? Но почему кандалы с узников снимали так далеко от тюремного замка? Да и главная дорога из Казани до середины XIX века шла совсем в другом месте. Пришлось опять обращаться к Рафаилу Хамитовичу. Так что, автором этой статьи вы смело можете считать его, а мне оставьте роль переписчика.
Но, сначала о Великом кандальном пути, был и такой в истории России. До начала пароходной эры высланные за Урал-камень, в Сибирь, приговоренные к каторге, к исправительным работам, хотя нет, такого темина до середины XIX века, до реформ Александра II не существовало, работа предполагала не исправление, а именно наказание провинившегося, нарушителя закона, так вот, приговоренные каторжники шли до мест своего заключения пешим порядком. Первыми ссыльными считаются полсотни жителей Углича, обвиненных по делу об убийстве царевича Дмитрия . В 1592 году их сослали за Урал строить Пелымский острог. С ними следовал колокол, который набатным звоном собрал горожан на площадь, после чего и начались волнения. Согласно приказу Василия Шуйского, колокол, как подстрекателя народного бунта, сбросили с колокольни, вырвали язык, отрубили «ухо», за которое колокол подвешивается к балке, наказали принародно на площади 12 ударами плетей и выслали в Сибирь. Вообще-то, печально знаменитый кандальный путь не проходил через наш Чистополь. Тракт шел из Москвы через Нижний Новгород, Казань, Осу, Пермь, Тюмень, Тобольск, Иркутск, до Верхнеудинска и Нерчинска. Но подтвержденное документами существование этапных изб в Булдыре и Старо-Шешминске неопровержимо свидетельствует о том, что и через наш город проходило одно из ответвлений этого пути.
До появления регулярного пароходного сообщения между городами, существовал только один способ передвижения ссыльных — пеший, и путь к месту поселения или каторжных работ занимал иногда до двух лет. Интересно проследить появление современных мемов. По Уложению о наказаниях в Российской империи ссылка преступников делилась на два вида — «в отдалённые места» (Восточная Сибирь и Забайкалье) и «в места, не столь отдалённые» (Урал, Западная Сибирь и Кавказ). В нем же впервые за партией заключенных законодательно был закреплен термин «этап», от французского «еtape» — шаг, ступень, любили наши дворяне французский язык.
По этапу арестанты того времени шли в цепях. До реформы Сперанского 1822 года, все арестанты, приговорённые по суду на каторжные работы, а также бродяги должны были быть постоянно закованными в оковы — ножные и ручные (прообраз наручников) кандалы. Исключением из этого правила были лица привилегированных сословий, ссыльные, а также женщины и дети. Эти категории шли без оков на ногах, на них были лишь ручные кандалы. Все арестанты приковывались за руку к общей цепи, формировавшейся без учета пола и возраста. Ссыльные мужчины, лишённые всех прав состояния, а также бродяги отправлялись по этапу с выбритой правой половиной головы. Опасным преступникам жгли клейма на лбу и щеках — «Кот» (каторжник), «Г» (грабитель), «В» (вор). Широко практиковалось также вырезание ноздрей. Из указа императрицы Елизаветы 1754 года: «Колодникам мужеска пола ноздри вырезать и знаки ставить положено в томъ разсуждении, чтобы они из ссылки побегов чинить не дерзали». Реформа Сперанского 1822 года смягчила «кандальную практику». Ноги теперь заковывали только мужчинам. С кандалами обязательно выдавались подкандальники и подвязки. Оковы не подгонялись, они изготавливались трёх размеров: на большой, средний и малый рост. В 1824 года появился знаменитый «шнур» — длинный железный прут, называемый по имени его изобретателя — начальника генштаба Российской армии Иоганна Дибича, «прутом Дибича». Известнейший российский юрист Анатолий Федорович Кони, в бытность свою прокурором Казанского окружного суда и одновременно губернским прокурором, так описал это устройство: «На толстый аршинный прут с ушком надевались до восьми запястьев (наручней) и затем в ушко вдевался замок, в каждое запястье заключалась рука арестанта. Ключ от замка клался в висевшую на груди конвойного сумку, которая обертывалась тесемкою и запечатывалась начальником этапного пункта. Распечатывать ее в дороге не дозволялось». Существовала и такса, за 2 копейки в день конвойные соглашались не приковывать арестанта к «пруту Дибича». Если узник не располагал звонкой монеткой, копейки удерживались из «кормовых сумм».
На основании утверждённого Мнения Государственного Совета от 4 мая 1864 года арестантам при пересылке к месту назначения отпускались «кормовые» деньги: «лицам высших сословий и принадлежавшим к оным до осуждения — по 15 копеек, а лицам прочих сословий — по 10 копеек в сутки». Собственных денег в пути ссыльным иметь не разрешалось. Кормовыми деньгами распоряжалась препровождающая ссыльных стража. И, кстати, кормовые деньги полагались также женам и детям, добровольно следовавшим за своим осужденным мужем и отцом.
Этих денег всегда не хватало. Дополнительным источником доходов, кроме продажи арестантской одежды, служило подаяние. В России издавна подачу «колодникам» считали обязательным и богоугодным делом. Подаяние делили между арестантами старосты этапа.
Согласно «Инструкции о приеме, отправлении и препровождении ссыльных от 13 июня 1876 года «на ссыльных, как на летней, так и на зимней одежде неупустительно нашивается: у следующих в каторжную работу по два, а у следующих на поселение — по одному четырехугольному лоскуту на спине» Вот за такие метки каторжники и получили прозвище — «бубновые».
Охраняла колонну заключенных этапная команда. После реформы Сперанского 1822 года, этапные команды стали состоять из одного обер-офицера, двух унтер-офицеров, 25 солдат, 4 городовых казаков и одного барабанщика. Этапная команда должна была сопровождать арестантов до следующего этапного пункта, передавать их по счету и охранять этапную тюрьму. На всех почтовых трактах через одну станцию были построены этапные помещения для ночлега заключенных. Кстати, содержание этапных помещений было одной из повинностей уездного земства.
Так, с барабанным боем, который должен был напоминать окружающим о трудной и дальней дороге, вызывать чувства сострадания, а с ними и большие пожертвования, через села и города России двигались партии арестантов. Так они подходили и к нашему Чистополю.
Вот как описывал в своей известной книге «Россия, тюрьмы, каторга. ссылка» передвижение такой партии каторжников Петр Алексеевич Кропоткин, историк, философ и публицист, создатель идеологии анархо-коммунизма, один из самых влиятельных теоретиков анархизма. Человек, который в разгар «красного террора» писал Владимиру Ленину: «…Полиция не может быть строительницей новой жизни, а между тем она становится теперь державной властью в каждом городке и деревушке. Куда это ведет Россию? К самой злостной реакции»…
«По дороге медленно двигается партия. Во главе ее открывает шествие отряд солдат. За ними с трудом двигаются осужденные на каторгу, с наполовину обритыми головами, в серой одежде, с желтым бубновым тузом на спине, в дырявых сапогах, износившихся в длинном пути и открывающих напоказ лохмотья, в которые завернуты израненные ноги. Каждый каторжник тащит за собой цепь, прикованную к его щиколотке. Цепь идет вверх по обеим ногам и прикреплена к поясу. Другая цепь крепко стягивает обе руки, третья соединяет вместе шесть или восемь каторжников. Каждое неосторожное движение одного из такой кучки отзывается на скованных вместе с ним товарищах; слабейшего тянет вперед более крепкий, и не дает ему останавливаться. За каторжниками шагают поселенцы, в такой же серой одежде и такой же обуви. Партию с обеих сторон сопровождают солдаты. В конце шествия замечаете вы несколько телег, которые тянут малорослые, изнуренные крестьянские лошаденки, похожие на собак. Они нагружены поклажей осужденных, больными и умирающими, которые привязаны веревками наверху груза. За телегами спешат жены осужденных; иные отыскали себе свободный уголок на нагруженной телеге и присаживаются туда, когда не в силах идти дальше; но большинство бредет пешком за телегами, ведя своих детей за руку или неся их на руках. За ними идет второй отряд солдат; последние толкают прикладами ружей тех женщин, которые останавливаются в изнеможении среди обледенелой грязи на дороге. Шествие заключает повозка начальника партии».
Вот такой этап прибредал к нашему Чистополю по так называемой Большой дороге, которая от Шуранского перевоза через Алексеевское, Тиганы и Красный Яр шла в сторону Уфы и Оренбурга. До середины XIX века это была основная дорога из Казани в регионы Южного Урала. В одной из моих любимых книг — «Детские годы Багрова-внука», Сергей Тимофеевич Аксаков описал, как его, маленького Сереженьку, мамочка везла по этой дороге на учебу в Казань. Прочтите, не пожалеете.
К нашему Чистополю этап подходил с южной стороны, по дороге, которую мы сегодня называем Альметьевским трактом, тогда она называлась — Оренбургский тракт. Вернемся к рассказу Рафаила Хамитовича. Подходя к мосту через Ржавец, этап останавливался. Здесь его ждали чистопольские кузнецы. Кроме улицы кузнецов вдоль Берняжки, которую называли Нижней Кузнечной, была еще и Верхняя Кузнечная, та, к которой и подходил этап. Обратимся к моему любимому занятию — рассматриванию карт. Вот скрин этой части города увеличенного плана Чистополя, выполненного городским техником Ковалевским в 1913 году. На плане хорошо видно длинное здание, вытянувшееся вдоль Оренбургского тракта, его номер 59. Это и есть кузницы, возле которых останавливался этап. На деле это был ряд сараев с горнами, возле которых и трудились кузнецы. Именно здесь с кандальников снимали кандалы и цепи. Вот про ручные кандалы — прообраз наручников, точно сказать не могу, не нашел информации, вернее, она очень разнится. Известно, что на территории старого, деревянного еще острога, располагавшегося на углу Старо-Казематной и Архангельской, на этом месте впоследствии было построено здание женской прогимназии, которое заняло Общественное собрание с некоторыми службами городской управы, а сегодня в нем расположилась коррекционная школа №10, так вот, на этой территории были найдены ручные оковы — кандалы, их можно увидеть в экспозиции Музея истории города Музей-Истории-Города Чистополь. Возможно, что до реформ Александра II ручные кандалы в тюрьмах были обычным явлением, по крайней мере, в качестве наказания их применение было повсеместно.
Патент на перековку кандальников был не только у Серебрякова, известна еще одна фамилия потомственных кузнецов — Коноваловы. Оба они имели наемных рабочих. Не стоит думать, что кузнечные мастерские, расположенные по Верхней кузнечной, занимались лишь перековкой арестантов. Основную работу им давал Хлебный рынок, расположенный по соседству. Поскольку зерно в Чистополь свозилось на телегах, у кузнецов всегда была работа по ремонту тележных колес — наклепке металлического обода колеса.
Собранный в Чистопольском остроге и и отдохнувший за несколько дней этап, отправлялся , вернее, влачился далее через Булдырь и Старо-Шешминск, двигаясь по своему скорбному пути в Сибирь. Как проходила отправка этапа вы могли прочесть в романе Льва Николаевича Толстого «Воскресение».
«С громом отворились ворота, бряцанье цепей стало слышнее, и на улицу вышли конвойные солдаты в белых кителях, с ружьями и расстановились правильным широким кругом перед воротами. Когда они установились, послышалась новая команда, и парами стали выходить арестанты в блинообразных шапках на бритых головах, с мешками за плечами, волоча закованные ноги и махая одной свободной рукой, а другой придерживая мешок за спиной.
Сначала шли каторжные мужчины, все в одинаковых серых штанах и халатах с тузами на спинах… Звеня кандалами, пройдя шагов десять, останавливались и покорно размещались, по четыре в ряд, друг за другом. Вслед за этими потекли из ворот такие же бритые, без ножных кандалов, но скованные рука с рукой наручнями, люди в таких же одеждах. Это были ссыльные… Они так же бойко выходили, останавливались и размещались также по четыре в ряд. Потом шли женщины, тоже по порядку, сначала – каторжные, в острожных серых кафтанах и косынках, потом – женщины ссыльные и добровольно следующие, в своих городских и деревенских одеждах. Некоторые из женщин несли грудных детей за полами серых кафтанов.
С женщинами шли на своих ногах дети, мальчики и девочки. Дети эти, как жеребята в табуне, жались между арестантками. Мужчины становились молча, только изредка покашливая или делая отрывистые замечания. Среди женщин же слышен был несмолкаемый говор. Когда всех вновь перечли, конвойный офицер скомандовал что-то, и в толпе произошло смятение. Слабые мужчины, женщины и дети, перегоняя друг друга, направились к подводам и стали размещать на них мешки и потом сами влезать на них…
Несколько арестантов, сняв шапки, подошли к конвойному офицеру, о чем-то прося его. Они просились на подводы. Конвойный офицер молча, не глядя на просителя, затягивался папиросой, и как потом вдруг замахнулся своей короткой рукой на арестанта, и тот, втянув бритую голову в плечи, ожидая удара, отскочил от него. – Я тебя так произведу в дворянство, что будешь помнить! Дойдешь пешком! – прокричал офицер. Одного только шатающегося длинного старика в ножных кандалах офицер пустил на подводу…»
Я надеюсь, что сегодня ожила еще одна картинка из жизни уездного города Чистополь.
А что же с мистическим ощущением страданий на углу Кузнечной и Солдатской, запахом запекшейся крови на булыжной мостовой, донесшемся через века, можете вспомнить вы. Да, все это было, было. Этот район в старом Чистополе назывался Пикановкой. Две кожевенные фабрики Вачуговых, пара трактиров низшего пошиба, в которых работники этих фабрик оставляли все свои деньги, драки и поножовщина, стоящие по соседству городские бани — это все Пикановка, район, куда даже городовые боялись ходить поодиночке. Вдобавок ко всему, в этом же районе, возле слияния двух Берняжек, находился дом, в котором всегда можно было получить услуги женщин, как это сегодня принято говорить, «с пониженной социальной ответственностью». Этот подпольный «дом терпимости» на свою беду решили посетить несколько офицеров из батальона КОМУЧа, занявшего Чистополь на пару месяцев в 1918 году, после чего они бесследно пропали. В результате проведенного через несколько дней обыска были обнаружены вещи пропавших — одежда со следами крови и личное оружие. Тела убитых и ограбленных белочехов, как выяснилось, были сброшены в Берняжку. Так что крови и страданий в этом районе хватало всегда.
Еще раз благодарю Рафаила Хамитовича Хисамова за столь образный рассказ о еще одной стороне жизни уездного города Чистополь:
Поиски смыслов Салавата Негматова.
#нашчистополь
Вчера еще раз сходил на выставку работ Салавата Негматова. Нет, я, конечно, был на открытии выставки, спасибо Ринату Ханафееву Ринат Ханафеев, который предупредил, что нельзя пропустить это событие. Но на открытии сложно постоять в одиночестве перед работами мастера, попытаться докопаться до замысла художника, ( а есть и такие работы. которые требуют размышления), полюбоваться техникой и многообразием исполнения.
Открытие выставки — это и открытие художника. Несмотря на то, что я немного был с ним знаком, а Салават Изадович Салават Негматов приезжал к нам на пленэр «Татарская тропа» несколько лет назад, тогда я общался с приехавшими художниками, показывал им Татарскую слободу и рассказывал историю некоторых домов, так вот, то знакомство было мимолетным, а в этот раз к нам приехала целая выставка работ Салавата Негматова. И, кстати, тогда Салават был один из немногих, кто перенес свои впечатления от исторических зданий, требующих помощи, кричащих о близком своем конце, на холст, но его главную работу сочли неподходящей и не показали на той выставке. Но сегодня эта работа вновь приехала в Чистополь. За прошедшие пару лет дом на углу Толстого и Демьяна Бедного был снесен, но мы можем вновь увидеть его на картине Салавата Негматова.
Салават Изадович, несмотря на свой талант, очень скромный человек, тактичный, чрезвычайно вежливый и удивительно простой. А ведь он член Союзов художников и республики Татарстан, и Российской Федерации. Разговаривает негромко, словно стесняясь. Но его работы говорят сами за себя. Не думал, что графика, а именно в этом жанре работает Салават Негматов, может быть так разнообразна и так «смотрибельна». А ведь это один из сложнейших жанров живописи. Но, я же не профи, это опять Ринат Ханафеев подсказал: «Мы, живописцы, использующие цвет в своих работах, можем расставить акценты, привлечь внимание к сильной части картины, подчеркнуть, выявить главное, используя цветовое решение. График же, работая в монохромной живописи, лишен этой возможности, оттого-то его работы должны быть предельно выразительны, предельно сильны своей техникой». Графика, действительно, очень сложный жанр живописи. И спасибо Наиле Рафиковне Нигметзяновой Нэля Нигметзянова , которая, говоря о художнике Салавате Негматове, провела и «ликбез» по графике.
В работы Салавата Изадовича всегда вложен философский подтекст, который не дается с первого взгляда. Казалось бы, чего там, все понятно — графика же, но — нет. Вдруг, совершенно неожиданно, может выплыть еще один смысл, который даже для автора оставался неизвестен.Так случилось на открытии выставки с одной из работ Салавата. Гузель Агмалова Гузель Агмалова , с которой я пришел на открытие выставки, человек творческий, совершенно неординарный в поисках истины и в своих суждениях, человек пишущий и пишущий прекрасно, нашла, увидела новую трактовку одной из работ художника. Как-будто из глубины холста выплыл второй, а может, третий слой. Его картина получила совершенно другую интерпретацию, новый смысл. Сам художник с удивлением взглянул на свое полотно. Это графика! И графика Мастера! Не буду показывать пальцем на картину, поищите ее сами. Не всем удается так проникнуть в мысли автора, но, все же, попробуйте.
Но это женский взгляд на работы, поиски смыслов и поиски загадок, поиски решений. Меня же заворожила другая работа, напомнившая мне великолепный мультик Юрия Норштейна «Ежик в тумане». Сказочный лес просыпается в легком утреннем тумане, встречая новый день. И лес этот написан так ярко, такая перспектива деревьев выбрана, что эта работа сразу переносит тебя в детство, «когда деревья были большие», и счастьем был наполнен весь мир. Словно маленький человечек пришел в этот прозрачный от света лес, поднял голову и поразился его вечной красоте.
Жаль, что всего одна работа на выставке рассказывает нам о древней Бухаре, городе, в котором художник провел свое детство, в котором он учился писать свои картины. Очень хочется увидеть и другие работы, посвященные этому городу.
Великолепны узнаваемые татарские орнаменты, использованные в работах художника. Они сами — уже искусство. Прекрасны бездомные котята, сидящие в картонных коробках. Прекрасно и название выставки — «Диалог с душой». Есть такая работа Салавата Изадовича на стенах Белого зала «Музея истории города». Этот диалог с картиной, с выставкой, у каждого свой.
Огорчился вначале, увидев, что совсем немного людей пришло на открытие выставки, а потом подумал, что мы хотим от государства, задвинувшего культуру на задний двор, поставившего себе в приоритет совсем другие цели. Хорошо, что еще остаются люди, для которых искусство — непреложное требование души, для них эта выставка. Спасибо, Салават.
Музей истории города Музей-Истории-Города Чистополь. Белый зал. Выставка работ Салавата Негматова «Диалог с душой»:
Запомните меня такой. Ангелина Степанова. (часть 1)
#нашчистополь #чистопольлитературный
Посмотрел на днях старое, хотя, какое же оно старое, 1987 год, кино «Запомните меня такой». Не стал бы, наверное, смотреть, но в титрах, в главной роли — Ангелина Степанова. «Неужели та, наша», — подумалось. К тому же режиссером оказался Павел Чухрай («Вор», «Водитель для Веры»). Дальше, больше — в ролях блистательный Олег Борисов, неповторимая Ия Савина (как я люблю ее роли!), очаровательная Елена Проклова, всегда суровый Михаил Глузский. Надо было смотреть, конечно. Посмотрел, не пожалел. Такое типичное перестроечное кино. Главная героиня, соратница Сергея Мироновича Кирова, на склоне лет осознает, что общество, которое она верой и правдой строила, не щадя ни сил, ни здоровья, оказалось не совсем то, вернее, совсем не то, которое должно было получиться в результате ее труда и труда ее товарищей. Что даже ее дети, от которых она всегда требовала честности, прямоты в суждениях, искренности, духовной целостности и благородства, порой нарушают заветы матери, тяжело им живется со своей бескомпромиссностью. В фильме режиссер столкнул четыре поколения людей, приехавших из далекого сибирского города на день рождения главы большой семьи. Четыре поколения с разными жизненными ценностями, разными устоями, разными стремлениями.
На экране, вот, думаю, какое слово подобрать, — царила подтянутая, статная, худощавая немолодая женщина с великолепной фигурой и прекрасной осанкой. Полез смотреть в Википедию, сколько же ей лет. Степанова Ангелина Иосифовна, 1905 гола рождения. Значит 82 — невероятно, действующая актриса театра и кино. Справедливости ради, «Запомните меня такой» — ее последний фильм. Но в своем театре, во МХАТе, которому она не изменяла ни разу (за исключением чистопольского периода ее жизни, конечно), она играла еще несколько лет.
Ее фильмография насчитывает 14 полнометражных художественных картин, а во МХАТе, в котором она служила 64 года, количество сыгранных Ангелиной Степановой ролей перевалило за пять десятков.
О Ангелине Степановой можно писать романы. Собственно говоря, один роман уже написан — роман в письмах. Написал его Виталий Вульф. Многие, наверное, еще не забыли его великолепную программу «Серебряный шар» о событиях в мире искусства XX века. Книга эта о ее счастливой и одновременно несчастной и трагической любви к Николаю Эрдману. Называется она так: «Письма. Николай Эрдман. Ангелина Степанова. 1928 — 1935 годы». О жизни ее можно снимать сериалы. Впрочем, наверное, то же самое можно сказать о любой творческой личности, жившей и успешно работающей в нашей стране в 20-30-е годы, в годы, насыщенные страхом и радостью, ненавистью и любовью, заставляющие делать подлости и подниматься на вершины Олимпа, ощущая признание, а порой и ненависть зрителей или читателей.
Родилась в 1905 году в Николаевске-на-Амуре. Отец занимался страхованием, мама практиковала в качестве зубного врача. Когда Лине было три года, родители переехали в Москву. Росла болезненным ребенком, к ней старались относиться снисходительно, занятиями не напрягали, хотя она сама стремилась к знаниям. Много читала, любила музыку, владела французским языком, обожала декламировать стихи.
Родители вели светскую жизнь, нередко бывали в театре, иногда брали дочку с собой. Девочка в восторге от балета, самостоятельно начинает учиться танцевать.
В шестнадцать лет Ангелина поступила в Третью студию МХАТа, где курс набирал Евгений Вахтангов. Время было тяжелое — голод, разруха, грабежи. Домой страшно идти и частенько студенты оставались спать здесь, в Камергерском переулке. Шестнадцатилетняя Лина частенько недоедала, бывала на грани голодного обморока.
Дебютная роль Ангелине досталась по счастливой случайности, заболела актриса игравшая в спектакле «Принцесса Турандот». Роль маленькая, слов не было, только танец, но Лина готова была прыгать от радости. На втором курсе, она играла в спектакле «Битва жизни» по Диккенсу, где ее заметил Станиславский. В 1924 году поступила во МХАТ. В 1925-м, в спектакле «Горе от ума», она уже играла Софью, ее партнером был Константин Станиславским в роли Фамусова. Стояла на одной сцене с Ольгой Книппер-Чеховой и Василием Качаловым.
А дальше…Из воспоминаний Ангелины Степановой. «Шел 1928 год. Я была замужем за Николаем Михайловичем Горчаковым, педагогом и режиссером Художественного театра… На моем счету уже значилось шесть больших ролей. Мы с мужем жили в Кривоарбатском переулке, дом наш — одну большую комнату — друзья любили за тепло и гостеприимство. К нам часто заходили коллеги-мхатовцы, писатели, художники. Всегда находилось, чем угостить их или просто накормить обедом, ужином. Частыми гостями были в доме Марков, Бабель, неразлучные тогда Олеша и Катаев, художники Дмитриев и Вильямс. Заходил и замечательный актер Театра сатиры, обаятельный Владимир Яковлевич Хенкин, остроумный, неутомимый рассказчик. Несколько раз мы принимали у себя Всеволода Эмильевича Мейерхольда с Зинаидой Райх и обязательно подавали на закуску соленые грузди, так любимые знаменитым режиссером. Много времени проводил у нас Владимир Захарович Масс: они с мужем работали тогда над инсценировкой мелодрамы «Сестры Жерар». Владимир Захарович и познакомил нас со своим другом и соавтором Николаем Робертовичем Эрдманом и его женой Диной Воронцовой. Мы подружились и в свободное время ходили всей компанией на выставки, концерты, в теа-клуб. Было весело и интересно. Николай Робертович фонтанировал идеями и легко сочинял сценарии фильмов и эстрадных спектаклей. Он был остроумен, блестящ, любил театр, знал его, загорался от стихотворной строки, от цвета неба, от женской красоты и был требователен к себе.
Эрдман стал часто приходить к нам, приходил один, а потом стал приходить, когда я была одна… Возник роман, продлившийся ни много ни мало — семь лет…
Чувство, возникшее к Эрдману, было так сильно, что заставило меня разойтись с мужем. Я переехала к своей подруге, актрисе нашего театра Елене Кузьминичне Елиной, Елочке. Ее брат, Николай Кузьмич Елин, уехал в длительную командировку, и мне предложили его комнату. Эрдман часто навещал меня там, приезжал он и в города, где гастролировал МХАТ, или где я отдыхала. Но всегда приезжал под каким-нибудь предлогом, и всегда мы жили в разных номерах гостиницы. Освободившись от супружеской опеки, окруженная вниманием мужчин, имея прозвище «прелестной разводки», я не стремилась к упрочению своих отношений с Эрдманом. Мне нравились и моя независимость, и таинственность моего романа. Жизнь текла не скучно: иногда счастливо, иногда обидно и грустно, но мы любили, дружили и привязались друг к другу».
С 1927 года Николай Эрдман работал в кинематографе как сценарист. С ним дружили Константин Станиславский и Всеволод Мейерхольд, с ним дружили Исаак Бабель, Михаил Булгаков, Владимир Маяковский. Вместе с Владимиром Массом и Григорием Александровым он написал сценарий фильма «Веселые ребята». Во время съемок фильма в Гаграх, в 1933 году, Эрдман был арестован вместе с Массом. Повод для ареста дали сочиненные ими и не предназначенные для печати стихи.
Один верблюд пролез в игольное ушко,
А это очень нелегко.
И чтоб отметить это чудо,
Все стали чествовать верблюда.
Он — сверхверблюд!
Громадный труд!
Мораль: у нас неповторимая эпоха,
А вот иголки делаем мы плохо.
Фамилии обоих из титров фильма были удалены. Приговор, вынесенный Эрдману, оказался мягким для того времени — ссылка на 3 года в город Енисейск. Ехал он туда сначала в арестантском вагоне, а потом на перекладных через глухую тайгу.
Из воспоминаний Ангелины Степановой. «Я узнала об аресте Н. Р. Эрдмана и В. З. Масса… Вместе с горем пришло ясное осознание значимости Эрдмана в моей жизни, моей большой любви и привязанности к нему. Отчаянию не было границ, но не было границ и моему стремлению помочь ему. В те годы МХАТ курировал, как тогда говорили, «от ЦК партии», Авель Софронович Енукидзе. Он был в курсе всех мхатовских дел, знал актеров, и великих, и нас, молодых, — одним словом, считался в театре своим человеком. Меня он опекал с отеческой нежностью: я была молода и внешней хрупкостью походила на подростка…Я решила обратиться к Авелю Софроновичу. Он принял меня в своем рабочем кабинете. Я просила о свидании и разрешении навестить Эрдмана в ссылке. Енукидзе всячески отговаривал меня от поездки в Сибирь, даже пригрозил, что я рискую остаться там, но я была тверда в своем намерении. Тогда он спросил меня, что заставляет меня так неверно и необдуманно поступать? Я ответила: «Любовь». Возникла долгая пауза: верно стены этого кабинета такого прежде не слыхали. «Хорошо, — сказал Авель Софронович, — я дам вам разрешение на свидание, и вы поедете в Сибирь, но обещайте, что вернетесь». Я обещала, сказав, что обязательно вернусь и буду продолжать играть на сцене МХАТа. А МХАТ в то время был великим театром, без него я не мыслила своей жизни. Енукидзе поинтересовался: как я живу и есть ли у меня деньги? Он дал мне номер телефона, по которому я смогу получить бесплатный билет до Красноярска и обратно. Я расплакалась и стала благодарить его»…
Поступок жены декабриста. Летом 1934-го Ангелина Степанова приехала на целых две недели к Николаю Эрдману в Енисейск.
И письма, письма, письма.
Москва,
проезд Художественного театра,
Художественный театр Первый им. Горького,
А. О. Степановой.
3 ноября 1933 г.
Деревня Большая Мурта.
Только что задавал корм своему Гнедко: 120 верст — 2 дня… А сейчас сижу в хате и греюсь у печки. До Енисейска осталось около 250 верст. Мороз стоит градусов в 30, и обещают больше. Завтра буду искать новых лошадей. Еду один, всеми брошенный и покинутый. Даже ГПУ и то от меня отказалось. Обнаружил вокруг себя и в себе много любопытного. Рвусь в Енисейск, как будто это Москва. Будет адрес — будут письма. Линуша, милая, когда же я буду Тебя читать? Целую Тебя, хорошая. Улыбаешься ли? Пожалуйста, улыбайся! По-моему, я сегодня родился. 3 ноября. Поздравляю Тебя, длинноногая. Привет Елочке. Николай.
P.S. С дороги я послал Тебе несколько открыток. Спасибо Тебе, что посетила меня в Москве.
4 ноября 1933 года
Дорогой, прекрасный, любимый, мне хочется, чтобы это письмо встретило тебя. Не знаю, где ты, как ты? Получила телеграмму из Иркутска. А вчера Борис (брат Николая Эрдмана) сказал мне, что ты на дороге в Енисейск. Рассказывать о себе, о своих днях трудно, когда буду знать, что ты доехал, твой адрес, буду посылать письма каждый день, так что роль Хенкина у меня впереди. Эти дни много играю, репетирую и на днях думаю перебраться на новую квартиру, в которую до сих пор никак не могу собраться с силами и переехать. Береги себя. Будь здоров. Пиши мне. Я люблю тебя, думаю о тебе все дни и ночи. Не оставляй меня своим вниманием, мыслями, сердцем. У меня все принадлежит тебе, я для тебя на все готова. Целую тебя, родной.
Лина.
Москва,
проезд Художественного театра,
Художественный театр Союза ССР им. Горького,
Ангелине Осиповне Степановой.
Встаю в 7. Ложусь в 11. Лежу в темноте с открытыми глазами и мучительно долго не могу заснуть. Стараюсь думать о работе и думаю о Тебе. У меня нет от Тебя ни одной строчки, но со мной Твой портсигар, и каждый раз, перед тем как вынуть новую папиросу, я читаю надпись над деревом. Я выкуриваю в день пятьдесят папирос. Скоро Новый год. Я не знаю счастья, я не знаю, есть ли у меня право желать счастья Тебе, но если даже тень его сможет промелькнуть по Твоему лицу, когда Ты подумаешь обо мне, она будет для меня самым огромным счастьем в жизни. Целую тебя, Линуша.
Николай.
Сохранилось 280 писем Лины и 70 писем Николая. По этим письмам в 2015 году был поставлен телеспектакль «Длинноногая и ненаглядный». Ищите на канале «Культура».
Именно ей, а не кому-нибудь другому, удалось добиться перевода Эрдмана в Томск. Злые языки говорили, что для этого Лине пришлось переспать со всемогущим Авелем Софроновичем. Она надеялась, что облегчит ему существование. Они еще продолжали писать друг другу, но в один прекрасный день, узнав, что жена Эрдмана собирается к нему в Томск, Ангелина Иосифовна поняла, что все так и будет тянуться бесконечно, и нашла в себе мужество не ответить на очередное письмо. Николай Робертович еще долго продолжал писать по знакомому адресу: «Москва, проезд Художественного театра…», поздравил ее телеграммой с награждением орденом «Знак Почета», но решение было принято, окончательно и бесповоротно.
Они встретились в 1957 году, после смерти Александра Фадеева, второго мужа А. И. Степановой, с которым она прожила почти двадцать лет. Потом Эрдман приходил к ней в дом, познакомился с ее сыновьями, но… Все уже было в далеком прошлом.
В конце статьи для ленивых дам ссылку на книгу Вульфа. В ней вы найдете всю переписку.
Со вторым своим мужем, Александром Фадеевым, в течение долгих лет возглавлявшим Союз Писателей СССР, Ангелина Иосифовна познакомилась в 1937 году в Париже, когда она в составе труппы МХТ приехала туда с гастролями. Ангелина была счастлива с мужем, обживала новую квартиру, обустраивала дачу в Переделкино, по хозяйству помогала ее мать. Весной 1941 года Лина заболела и переехала с семьей на дачу. Несколько месяцев она радовалась общению с сыном и мужем, но все закончилось 22 июня. Театр эвакуировали в Саратов, часть труппы выехала в Нальчик и Тбилиси. Ангелина Иосифовна с семьей отправилась в Чистополь. К этому времени Ангелина Степанова уже Заслуженная артистка РСФСР, двадцать пять ролей на сцене Московского Художественного академического театра, награждена Орденом «Знак Почета» (1837 год) и Орденом Трудового Красного знамени (1938 год):
Ангелина Иосифовна Степанова в фильме «Запомните меня такой»:
Ангелина Степанова — ученица Третьей студии МХАТ:
Фото из фондов МХАТа: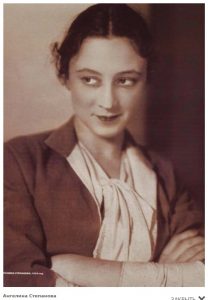
Ангелина Степанова и Василий Качалов:
В роли Бетси в «Анне Карениной»:
В Роли Мариэтт в «Воскресении»:
Ангелина Степанова и Александр Фадеев:
Запомните меня такой. Ангелина Степанова (часть 2).
#нашчистополь #чистопольлитературный
Улица Комсомольская, 9 — чистопольский адрес семьи Фадеевых. Дома сегодня нет. Здесь жили Ангелина Иосифовна с сыном Александром, Шуней, как его все называли, ее младшая сестра, Валерия Иосифовна с сыном Колей и мать сестер — Мария Владимировна. Вода в колодце, отопление дровами, свет — керосиновая лампа, туалет — будка во дворе.
Как и многие именитые московские «сидельцы» сестры не раз бывали в доме Авдеевых. Из воспоминаний Валерия Авдеева о Ангелине Степановой: «Задумчивая и самоуглубленная вначале, она по временам оживлялась, и тогда словно солнечный луч озарял наш дом, раздавался смех, сыпались шутки, анекдоты из театральной жизни, а иногда и целые сценки с поистине артистическим изображением типов. Это было драгоценным подарком нам в то тяжелое время».
В Чистополе Ангелина Иосифовна занималась общественной работой — была председателем Комитета по оказанию помощи эвакуированным. Комитет участвовал в распределении квартир, заботился о питании . Уже 10 августа в Чистопольском парке культуры, «с традиционной раковиной для оркестра и тенистыми аллеями», состоялся концерт, на котором чистопольцы знакомились с эвакуированными писателями, поэтами, музыкантами. Выступали Константин Тренев, Николай Асеев, Михаил Исаковский. Прекрасно играли пианистка Елизавета Лойтер, скрипачка Елена Лунц. Из воспоминаний Ольги Дзюбинской: «Ангелина Иосифовна выбрала для концерта сцену у фонтана из пушкинского «Бориса Годунова». Партнером ее оказался Завьялов, типичный провинциальный актер с охрипшим голос и размашистыми жестами. Степанова ухитрялась играть и за себя и за партнера».
С помощью Степановой в Чистополе в конце августа организовался театральный коллектив. Вот как описывает это событие чистопольский мемуарист Николай Виноградов-Мамонт: «Проползли по грязи в Дом культуры. Там в полной темноте — собрание по организации в Чистополе театра: Степанова, режиссер Ленинградского ТЮЗа Арсений Авдеев, молодая московская актриса театра Ленинского комсомола Лидия Голова и другие. Решили ставить — «Любовь Яровая». Дом культуры — это Дом учителя, К. Маркса, 28.
Из смешного, или печального, но, такого будничного. Осенью театральная бригада, возглавляемая Ангелиной Степановой удостоилась первого места за уборку гороха. Трудовая повинность была обязательной для всех.
Седьмого ноября к годовщине Октябрьской революции на сцене Дома учителя состоялся вечер, на котором выступали Борис Пастернак, Николай Асеев, Михаил Зенкевич, Михаил Исаковский. Гвоздь вечера — агитационно-патриотическая пьеса «Рыбачка с побережья», поставленная театральным коллективом Ангелины Степановой. Сама Ангелина Иосифовна играла рыбачку, а роль немецкого офицера исполнил Арсений Авдеев. Сбор от продажи билетов было предложено передать в Фонд обороны. В газете «Чистопольская коммуна» на следующий день появилась рецензия Константина Федина: «Спектакль нельзя не признать началом интересной работы нового коллектива, который может и должен показать благодарному чистопольскому зрителю настоящий театр». За короткий период маленькая труппа поставила «Юбилей» Чехова, «Славу» Виктора Гусева — стихотворную пьесу о двух инженерах, каждый из которых делает нравственный выбор , сказку для детей «Золоченые лбы» ( перевод с татарского).
После приезда в Чистополь профессиональных актеров, артистов Ленинградского областного драматического театра, Ангелина Иосифовна поставила на чистопольской сцене спектакль «Анна Кристи» по пьесе американского драматурга, лауреата Нобелевской премии по литературе 1936 года , между прочим, Юджина О’Нила. Очень модный тогда спектакль. Премьера состоялась 5 января 1942 года. А в «Женитьбе Белугина» А.Н. Островского , поставленной Ангелиной Степановой в Чистополе, они еще и сыграла одну из ролей. Из воспоминаний Цецилии Сельвинской: «Она всегда приходила на сцену задолго перед своим выходом и стояла у кулис, ушедшая вся в себя. Она смотрела в пол и жила своей жизнью, отличной от нашей». Небольшая театральная группа ставила и отдельные сцены из больших пьес и чистопольским зрителям удалось увидеть Марину Мнишек в исполнении блистательной Ангелины Степановой.
Ангелина Иосифовна участвовала и в радиопередачах чистопольского радиоузла, читала на литературных «средниках» стихи. Напомню, хотя вы это давно знаете, что литературные «средники» проходили в Доме учителя. Вспоминает Елена Левина: « Она стояла сбоку от сцены, в углу, слегка поеживаясь от холода, в накинутом на плечи деревенском платке и читала «Мороз и солнце, день чудесный, «Прощай, любезная калмычка…» Как же она читала! Я до сих помню ее интонацию и ее голос. С тех пор я полюбила ее и мы бегали в чистопольский театр на спектакль «Дядюшкин сон» , где она играла Зиночку».
Неполный год провела Ангелина Иосифовна Степанова в Чистополе, она вернулась в Москву в июне 42-го, но сколько ролей, сколько спектаклей, сколько выступлений, сколько работы!
В Москве одно из первых послевоенных выступлений все тот же «Дядюшкин сон», теперь уже с труппой МХАТа. Я, к великому своему сожалению, не видел «живые» спектакли с Ангелиной Степановой, только телеверсии и некоторые фильмы с ней, а потому еще несколько цитат из другой уже книги прекрасного рассказчика и знатока театра — Виталия Вульфа. «Серебряный шар. Драма за сценой».
«На следующий день (1946 год) мы с отцом были на утреннем спектакле – «Дядюшкин сон» по Достоевскому. Марию Александровну Москалеву играла Вера Николаевна Попова, жена Кторова, замечательная актриса, оставившая сильное впечатление. .., а Зинаиду – актриса необыкновенной красоты, с поразительно благородным и одухотворенным лицом. Это была Степанова, она мне казалась совсем молодой, хотя ей было уже более сорока лет, о чем я, конечно, не знал. Программка стоила сорок копеек, спектакль начинался в двенадцать часов дня, и в зале не было ни одного свободного места».
А это воспоминание Вульфа о работе Ангелины Иосифовны в «Анне Карениной». «Гостиная Бетси Тверской с темными стенами, огни свеч, лакеи бесшумно передвигают стулья, разносят чай. Блестят серебро самовара и прозрачный фарфор чайного сервиза. С появлением Бетси – Степановой на сцену накатывался воздух великосветских салонов императорского Петербурга, с их фарисейством, ложью и лицемерием».
ЗИМы, ЗИСы и Татры.
Сдвинув полосы фар,
Подъезжают к театру
И слепят тротуар.
Затерявшись в метели,
Перекупщики мест
Осаждают без цели
Театральный подъезд.
Все идут вереницей,
Как сквозь строй алебард,
Торопясь протесниться
На Марию Стюарт,
Молодежь по записке
Добывает билет
И великой артистке
Шлет горячий привет.
Это уже Борис Пастернак
Еще раз улыбнитесь. Ангелина Степанова играла Аллу Коллонтай в пьесе «Чрезвычайный посол», и ее гибкость, грация и осанка дали повод каламбуру Бориса Ливанова — «змея чрезвычайного посола».
Опять Виталий Вульф: «То было время, когда Степанова обогнала всех своих знаменитых соперниц, с которыми прожила жизнь в театре. Степанова уже давно занимала в театре первое положение. После Ирины в «Трех сестрах» и Бетси Тверской в «Анне Карениной» – ролей, сделанных с Немировичем-Данченко, – она медленно, но неуклонно взбиралась по лестнице вверх. Никогда не отказывалась от ролей. После смерти Фадеева стала заниматься общественной деятельностью, но главным в ее жизни оставалась сцена…В середине 70-х годов Анатолий Эфрос снял Ангелину Степанову и Анатолия Кторова в телевизионном спектакле «Милый лжец», его по сей день изредка показывают на телевизионном экране. В этом спектакле Степанова и Кторов как бы обрели второе дыхание, раскрепостив какие-то совсем неожиданные силы своих дарований, оба явили вдохновенный взлет таланта. Кторов и Степанова творили вокруг себя особое магнитное поле «интеллектуальной акробатики»… Блистательная современная актриса, женщина большого ума, снайперски умеющая оценивать людей. Я дружил с Ангелиной Иосифовной четверть века, не говоря уже о последних годах, когда она звонила мне почти каждое утро и минут тридцать-сорок говорила своим чуть надтреснутым голосом. С годами она стала разговорчивой, хотя прежде отличалась молчаливостью; наверное, это свойство старости. Я любил приезжать к ней пить чай».
Была профессором Школы-студии МХАТ, членом редколлегии журнала «Театр».
Не одобряла раздел МХАТа, осталась в труппе Олега Николаевича Ефремова.
Основные награды и премии:
Сталинская премия первой степени (1952 год) — за исполнение роли Бетси в спектакле «Анна Каренина» Л. Н. Толстого.
Народная артистка СССР (1960 год) — за выдающиеся заслуги в области театрально-драматического искусств
Герой Социалистического труда ( 1975 год) — за большие заслуги в развитии советского театрального искусства и в связи с семидесятилетием со дня рождения
Государственная премия СССР (1977 год) — за исполнение роли Шамуэй в фильме «Бегство мистера Мак-Кинли» (1975)
Орден «Знак Почета» (1937 год)
Орден Трудового Красного знамени (1938 год)
Орден Ленина (1948 год)
Орден Октябрьской революции
Орден Ленина (1975 год)
Орден Дружбы народов (1985 год)
Орден «За заслуги перед отечеством» III степени (1995 год)
И, да, во МХАТе Степанова не только играла, но и занимала должность парторга. Организовала партсобрание по осуждению академика А.Д.Сахарова, которое вошло в мемуары некоторых ее современников.
На столетнем юбилее театра Ангелина Иосифовна, сидя в кресле в роскошном платье от Славы Зайцева, произносила речь, как единственная оставшаяся в живых из «великих стариков», что вызвало несмолкаемые овации в зрительном зале. Ефремов стоял перед ней на коленях, это видела вся страна (юбилейный вечер транслировали по Первому каналу). Было ей тогда 93 года.
Последние годы она редко выходила из дома, общалась только с несколькими близкими людьми. Про свою жизнь актриса сказала: «В моей жизни было много горя и бед. Но если вы спрашиваете, была ли я счастлива, я скажу — да, была, каждый день, каждую секунду, и свою биографию я не променяю ни на какую другую».
Умерла Ангелина Иосифовна 17 мая 2000 года во сне.
В Чистополе сохранилось два здания, в которых ставила спектакли Ангелина Иосифовна Степанова — Литературный Музей — Дом учителя и бывшее здание городского театра, сегодня здание ЗОЖ. Здание Дома учителя принадлежит Минкульту, чтобы повесить на нем мемориальную доску надо пройти семь кругов ада, чем, конечно, никто заниматься не будет. А вот здание ЗОЖ находится в частном владении. Возле входа в него укреплена доска с множеством фамилий, это фамилии владелиц студий красоты, расположившихся в этом здании. Но вот одной, самой главной, на этом здании нет — «В этом здании в 1941-1942 годах работала Народная артистка СССР, Герой Социалистического труда, Лауреат Государственной премии, актриса Московского Художественного Академического Театра Ангелина Иосифовна Степанова». И, может быть, она когда-нибудь все-таки появится.
И меня, конечно, очень удивило, что в целом интересной и достаточно полной энциклопедии «Чистополь литературный» нет странички, посвященной Ангелине Иосифовне Степановой. Эта статьей я попытался заполнить этот пробел.
Обещанная ссылка на книгу Виталия Вульфа:
https://royallib.com/read/erdman_nikolay/pisma_nikola..
Семья. Ангелина Иосифовна, Александр Фадеев, Миша, Саша.. 1947 год:
Рукописная афиша праздничного концерта в Доме учителя, посвященного вечера Дню Октябрьской революции: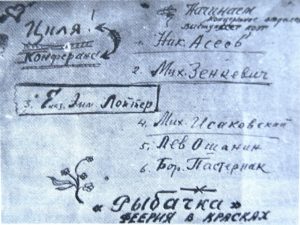
Рисунок Ангелина Степановой работы чистопольского художника Ивана Александровича Нестерова: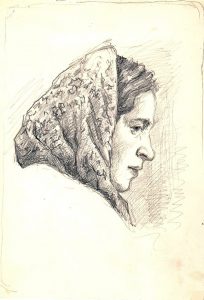
Ангелина Степанова и Анатолий Кторов у театрального подъезда: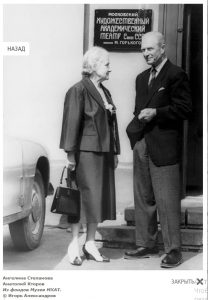
Здание чистопольского Гортеатра:
ЗАГАДКА ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ
#нашчистополь #экскурсииипочисчтополю
Уважаемый Тәлгәт Әфәнде месяц назад опубликовал фотографию здания за подписью — Больница Водников. Мне здание на фото не показалось похоже на эту больницу, мельком я увидел объяснение, что здание получило современный вид (не тот, в котором оно сейчас находится конечно, а тот, предыдущий, рабочий) в результате капитальной перестройки. Меня заинтересовало, что это вдруг здание, построенное явно в советское время, да еще и в стиле советского монументального классицизма, стиля эпохи проектирования соцгородов, а это 20-е, 30-е годы, когда строили на века, вдруг потребовало капитального ремонта. Обратился, как всегда, к нашим старожилам: — Лыкову Георгию Ивановичу Георгий Лыков и Отопкову Владимиру Ивановичу. Владимир Иванович все жизнь прожил в Поселке Водников, еще мальчишкой лазил по этому строящемуся зданию, они-то и пролили свет на историю больницы.
Начало стройки относится к середине 30-х годов, строили неторопливо, и к началу войны был готов только цокольный полуэтаж, перекрытый железобетонными плитами. Война внесла свои коррективы. Наплыв беженцев и эвакуированных был такой, что все мало-мальски подходящие здания пришлось переделывать в жилые. Тогда перестроили многие хозяйственные и складские постройки бывших купеческих усадеб, прорезали окна, понаделали перегородок и поселили в них людей. Это те здания, которые сейчас посносили, причисля их к ветхому и аварийному жилью. В недостроенное здание больницы также вселили нуждающихся в жилье — крыша над головой есть, не каплет же, когда нет дождя. Подумаешь, нет ни воды, ни отопления, ни канализации, весь город так жил. Понастроили клетушек, понаставили печек-буржуек, и — пошла коммунальная жизнь. Георгий Иванович вспомнил, что видел у кого-то фотографию этого здания, фактически только перекрытый подвал, из окон которого торчат трубы печурок. Удивляться тут нечему, Рафаил Хамитович Хисамов Рафаил Хисамов рассказывал, что это было еще достаточно комфортное жилье, что за Ржавцем и в районе нынешней Пролетарской прямо из-под земли во множестве торчали трубы печурок, из которых зимой шел дымок. Масса людей вплоть до конца 40-х годов жила в вырытых в пологом берегу городских речек и покрытых подручными материалами землянках. После войны из землянок стали выселять, а землю по Пролетарской стали нарезать возвращающимся фронтовикам. Именно там получил участок Мансур Валеев, участник войны, отец российского литературоведа, доктора филологических наук, профессора, члена Академии наук Республики Татарстан, заслуженного деятеля науки Российской Федерации и Республики Татарстан, члена Союза писателей России Наиля Мансуровича Валеева.
К концу 40-х здание будущей больницы удалось расселить и стройка вновь ожила, вот тогда-то и бегал по ней со своими приятелями шустрый такой мальчонка — Володька Отопков.
Стройка эта оказалась знаменита на весь мир, когда в начале 60-х вражеский «Голос Америки» рассказал о чистопольском «долгострое». Подействовало. Вскоре больница Камского речного пароходства приняла первых пациентов. Но жизнь больницы была недолгой Проблемы с финансированием как начались в 90-х, так, мне кажется, и не кончались до самого ее закрытия. Не раз ее пытались передать в другое министерство, а когда не удавалось — закрыть совсем, хотя о коллективе врачей, там работающих, я слышал только хорошее.
О её сегодняшнем состоянии лучше всего скажут фотографии. Грустно на них смотреть. еще более грустно попытаться ответить на вопрос — ПОЧЕМУ? Здание, которое простояло бы еще не один десяток лет сегодня стремительно разрушается. ПОЧЕМУ государство так беспечно относится к своему имуществу?
Сегодня сетуют, что в городе не хватает гостиничных номеров, надо срочно привлечь инвестиции, срочно строить гостиницы. А еще три, пять лет назад здание с минимальными затратами можно было бы переоборудовать в гостиницу. И стоянка, и парк, и вспомогательные здания, и подвал, в котором расположились бы и тренажерка и фитнес-залы, все это было, было. А как красивы были бы эти открытые террасы с гипсовыми балюстрадами, эта ностальгическая картинка по прошлой, такой уютной жизни.
А недавно на одной из встреч с руководителем Музея-заповедника услышал вообще великолепную мысль: » Вот если бы удалось привлечь инвестиции, убедить предпринимателей вложиться и создать в этом здании, на этой территории, санаторно-курортный комплекс! Сегодня, когда так стремительно развивается внутренний туризм, этот комплекс расположенный в старинном купеческом городе, неподалеку от красивейшей Камы, в привлекательной зеленой зоне, да еще и в таком интересном здании несомненно пользовался бы спросом, да еще и туристов и гостей города подтягивал бы к нашему Чистополю».
Вот это все и говорит о том, что нет комплексного плана развития нашего города, продуманного и выверенного под будущий туристический центр Закамья.
Как получилось так, что очевидные, ресурсосберегающие направления инвестиций оказались невостребованными? Как получилось так, что ни городскому обществу, ни руководству города не интересны кратчайшие пути к восстановлению былой славы, былого величия Чистополя?
Ну, а если вернуться к нашей печальной действительности, то, судя по всему зданию Больницы Водников уготована судьба соседнего здания — пожар и последующий снос.
Да, а здание на фотографии, опубликованной Талгатом-эфенди — это здание современного детского сада санаторного типа, улица Ленина, 71:
От сумы, да от тюрьмы… (часть I)
#нашчистополь #экскурсиипочистополю #чистопольскаятюрьма
Не следует считать себя неуязвимым, надежно защищённым от какого-либо несчастья…
После статьи о кандальном пути, по которому брели «этапы длинные в свои срока огромные», логичным продолжением темы станет рассказ о Чистопольской тюрьме, или, как называли это учреждение в XVIII веке — Чистопольском остроге, а в XIX — Чистопольском тюремном замке.
Название мест заключения — тюрьма, явно заимствованное. Этимологи спорят, от каких народов пришло к нам это слово. Чаще всего происхождение термина «тюрьма» связывают с немецким словом Turm — башня, которое в свою очередь имеет латинские корни — Turrin, (латынь — мать языков наших, вернее, бабка). Узников в средние века помещали в подвальные фундаментные помещения замковых башен. Так, в 1698 году, в третьей камере башни Бертодьер знаменитой Бастилии содержался заключенный, вписанный в тюремную книгу под именем Эстан Доже. Франсуа-Мари Аруэ, которого сегодня больше знают, как Вольтера, писал, что этот таинственный заключенный носил железную маску. Вольтера мало кто читал, но уж «Виконта де Бражелон, или десять лет спустя» Александра Дюма-старшего прочли многие, а те, кто не смог осилить толстую книгу с множеством буковок, тот помнит Железную маску в исполнении великолепного Жана Маре, а много позже и романтичного Леонардо Ди Каприо. Но это лирическое отступление, считается, что от этого Turm и происходит русское название — тюрьма. Хотя тоже не факт. На происхождение термина «тюрьма» претендует и древнетюркское слово «turma», а, поскольку, в русском языке в наследство от Золотой Орды осталось множество слов — почему бы и нет.
Изоляция провинившегося от общества в особом помещении, появилась, вероятно, вместе с человечеством. В Несторовском списке Повести временных лет сохранилась запись: «В год 6567 (1059 год от Рождества Христова) Изяслав, Святослав и Всеволод освободили дядю своего Судислава из поруба, где сидел он 24 года, взяв с него крестное целование; и стал он чернецом».
Толковые словари русского языка и словари синонимов перечисляют следующие наименования мест заключения: темница, поруб, погреб, острог, каземат, тюремная изба, арестантская, яма, узилище, застенок, кутузка, холодная, каталажка, блошница и казенный дом. А вот в нашем Чистополе был еще и Исправдом, и Домзак — Дом заключенных. Разнообразие и количество синонимов не оставляет сомнению места — заключение узников в тюрьмы всегда практиковалось очень широко.
Пенитенциарная система начала складываться в Российском государстве в середине XVI века, когда для наказания преступников стали использовать тюремное заключение в острогах. Законодательно тюремное заключение было впервые закреплено в Судебнике Ивана IV, которого мы чаще именуем, и не без основания, Иваном Грозным, от 1550 года. До этого основными формами наказания были штрафы и казни. Хотя казни этот Судебник и не отменил. В 1677 году на торговой площади города Владимира проходила показательная казнь «женки Фетюшки». Обвинение было тяжким – мужеубийство. Фетюшка остро отточенной косой отрезала своему законному супругу, Логинку Гаврилову, голову. Причина ее преступления, естественно, никого не интересовала. В соответствии с действовавшим законодательством, женку Фетюшку прямо посреди площади закопали по плечи в землю. Снаружи осталась одна голова. Есть и пить голове не давали. Прошло несколько дней. Фетюшка все не умирала. Игуменья ближайшего монастыря, не выдержав этого зрелища, отправилась в губную избу, где попросила об освобождении женки Фетюшки. Игуменья пользовалась во Владимире уважением, и к ее просьбе отнеслись снисходительно – Фетюшку откопали и отправили в тот монастырь на исправление.
Ну, и все мы помним хрестоматийное: «Как поймают (неверную жену, сбежавшую в Крым с любовником) — на кол посади»! Был и такой «гуманный» вид казни.
Строительство первой каменной тюрьмы на Руси относится ко времени правления того же Ивана Грозного. Она появилась на территории Чебоксарского кремля вместе с Государевым двором, приказной избой и казной. С того же времени для подобных заточений стали активно использовать монастыри.
Первые тюрьмы России предназначались для изоляции осуждённых от общества. Государство не тратило средства на кормление заключённых, поэтому их ежедневно выводили на «нищенский промысел». Начиная с конца XVI века труд осуждённых использовали для экономического развития государства. Ну, а впервые законодательно закрепил каторжные работы, как систему использования труда заключённых в ссыльных местах, наш любимый император всея Руси Петр I . За малейшую провинность утвержденный Петром Воинский артикул предусматривал телесные наказания и отправку в солдаты, (убойная скотинка всегда была нужна), за более серьезные прегрешения полагались либо смертная казнь, либо бессрочные каторжные работы – «крепостные» и «галерные». Основная масса каторжников трудилась на строительстве Петербурга, оборонительных крепостей и в адмиралтействах. Розыскные команды Петра прочесали всю страну, добравшись и до села Чистое Поле. Беглые крестьяне, основавшие село, водворены были не прежним владельцам, а погибли на берегах Невы на строительстве града Петрова. Так что и великие стройки первой пятилетки молодого советского государства — Беломоро-Балтийский канал, автомобильные и тракторные заводы, металлургические комбинаты, Северная железная дорога — эти все стройки века велись трудом зэков, и традиции этой уже более трехсот лет.
До 1802 года никто не задумывался о том, что тюрьмы должны «способствовать к исправлению», нет, лишь наказание за вину осужденного. К примеру, обычным решением судов по делам о долгах было «поставление на правеж», то есть заключение в тюрьму с ежедневным выводом на торговую площадь и избиением. Такой «правеж» мог продолжался до полного сбора суммы долга.
Вчерашний день, часу в шестом,
Зашел я на Сенную;
Там били женщину кнутом,
Крестьянку молодую.
Узнали поэта? За что могли наказать эту женщину? За воровство, грабёж, скупку краденного, убийство или оставление новорождённого, вызвавшее его смерть. За эти преступления могли назначить до сорока ударов кнутом, или до сто ударов плетьми. А порку розгами вообще за наказание не считали, она была распространена повсеместно, даже в школе и, нередко, даже в семье. Если вы думаете, что эта сцена не для Чистополя, то вы ошибаетесь. Публичные наказания проводились на Сенной площади, она находилась в районе часовни «Умиление». Возможно, на месте часовни и был врыт в землю тот самый столб, к которому привязывали наказываемых. И, кстати, граждане Российской империи, принадлежащие к дворянскому сословию, а с 1785 года и именитые — Почетные горожане, а также купцы первой и второй гильдии были освобождены от телесных наказаний, что являлось одним из стимулов перехода в купечество.
В 1802 году Александр I учредил Министерство внутренних дел Российской империи. Новое ведомство поставило своими целями не только наказание, но и исправление преступников. Принятые в 1819 году «Правила для попечительного о тюрьмах общества» впервые обозначили необходимость не только улучшения быта заключённых, но и воспитания их «в правилах христианского благочестия».
Телесные наказания как мера уголовного наказания были отменены Указом Александра II только в 1863 году, во время проведения всеобщих реформ. И тем не менее волостные суды и местные земские начальники продолжали назначать их провинившимся крестьянам.
В 1861 году, в преддверии реформ, губернаторам было приказано сделать всеобщую ревизию состояния тюрем. «Невероятная продолжительность предварительного заключения; ужасные условия тюремной жизни; скопление сотен заключенных в грязных и тесных камерах; вопиющая безнравственность тюремщиков, на деле всемогущих, вся обязанность которых заключается в запугивании и угнетении, и которые крадут у вверенных их попечению людей скудные гроши, выделяемые им государством; отсутствие работы и полный недостаток всего, что нужно человеку для сохранения душевного равновесия; циничное пренебрежение к человеческому достоинству и физический упадок заключенных», — таков был вывод комиссии. Это цитата из книги главного теоретика анархизма Петра Кропоткина, из его труда «Тюрьмы и каторги России».
Пора, однако, переходить к Чистопольским тюрьмам. В 1775 году началась губернская реформа Екатерины II. В соответствии с «Учреждением об управлении губерниями», страна делилась на 40 губерний, каждая губерния – на уезды. В каждой губернии, помимо прочего, должна быть устроена губернская, а в каждом уезде – уездная тюрьма. Все мы помним дату образования уездного города Чистополь — 1781 год, с этого времени уездный город обязан был иметь уездную тюрьму. Но, если Чистопольский магистрат появился лишь в 1796 году, то к строительству Чистопольского острога приступили незамедлительно. Он был выстроен на том месте, где сегодня находится школа для детей с ограниченными возможностями здоровья. Переулок, на котором был выстроен острог, так и назывался — Старо-Острожный переулок. Сенная площадь находилась почти напротив, а что, удобно, преступников для порки далеко водить не надо было. Южная граница Чистополя была в то время совсем рядом от острога. Она проходила по Канавной улице, современной Нариманова. Неподалеку находилась и застава — въезд в город со стороны Большой дороги, по которой и прибывали этапы кандальников, современного Оренбургского тракта, охраняемый сторожем, примостившимся рядом с полосатой будкой.
В Чистопольском остроге содержались:
1. Состоящие под следствием и судом по таким преступлениям, за которые определяется лишение всех прав состояния и ссылка в Сибирь или другие отдалённые губернии, или же отдача в исправительные арестантские роты гражданского ведомства, или в рабочий дом;
2. Осуждённые на кратковременный арест, т.е. от 1 дня до 3 месяцев;
3. Приговорённые к заключению в тюрьме в виде наказания лица привилегированного сословия;
4. Пересыльные арестанты — таких в Чистопольском остроге было большинство;
5. Долговые арестанты;
6. Содержащиеся по приговорам обществ;
7. Развратные женщины;
8. Арестантские дети.
Это странно, но, считается, что уже к середине XIX века и деревянные здания острога, и высокий забор, его окружавший, пришли в совершенную ветхость. Описывают даже случай, когда забор повалило сильным ветром, и заключенные чуть не разбежались. Так, или иначе, а, возможно, что и Чистополь быстро вырастал к югу, но в середине XIX века пришлось задуматься о постройке нового тюремного замка. Место было подыскано быстро, интересно, что опять по соседству с переехавшим за город Сенным рынком, но вот с архитекторами комплекса зданий тюрьмы ясности нет никакой. Есть сведения, что казанский городовой архитектор Петр Григорьевич Пятницкий разработал типовой проект всего комплекса тюремного замка вместе с помещениями суда, казенной палаты и полицейского управления. В инете можно найти год постройки нового Чистопольского тюремного замка — 1856-й. И адрес его, кстати — Ново-Острожный переулок. Замок был построен на средства Государственного казначейства. Из приколов — в Елабуге,например, здание для тюремного замка на 75 человек арендовали у елабужского купца Емельянова из расчета 500 рублей в год. У Надежды Геннадиевны Валеевой есть запись, что первые заключенные «справили новоселье» в новой Чистопольской тюрьме лишь в 1870-е годы. Рафаил Хамитович Хисамов пишет, что квартира начальника тюремного замка была выстроена к 1885 году по плану Александра Ефимовича Остовского, того самого, который несколькими годами ранее спроектировал Никольский храм в Русской Чебоксарке, он работал в те годы младшим архитектором строительного отделения Казанского губернского правления. А в известном справочнике по казанским архитекторам XIX — XX веков нашел, что в 1895 году комплекс зданий чистопольского тюремного замка строил (вероятно, достраивал, в это время строился женский корпус) инженер того же строительного отделения Казанского губернского правления Петр Михайлович Тюфилин, сын купца, известного столяра-краснодеревщика, мастера по изготовлению и установке иконостасов Михаила Александровича Тюфилина. Это его иконостас был установлен в Николаевской соборе. Похоже, с самого начала суждено было Чистопольской тюрьме все время достраиваться, перестраиваться, расширяться, принимая все новых и новых заключенных.
В 1893-1894 годах по поручению казанского губернского архитектора Льва Казимировича Хрщоновича чистопольский городской техник Николай Александрович Паренсов руководил возведением однопрестольной домовой церкви Преображения Господня при Чистопольском тюремном замке. В состав Строительного комитета входил чистопольский купец Григорий Александрович Антропов, бывший в то время главой Городской управы, который внес личный капитал и организовал подписную компанию по сбору средств на возведение храма. Освящение престола и церкви в декабре 1894 года провел настоятель городского Николаевского собора Василий Пеньковский. В то же время состоялось рукоположение во священника этой церкви отца Сергия Константиновича Соколова, прослужившего в ней почти 10 лет. В метрической книге Спасо-Преображенской церкви имеется запись о рождении в 1895 году в Тюремном замке трех мальчиков и двух девочек, а также о упокоении двух мужчин и двух женщин. Интересно, что нашлись документы, датированные 1903 годом — прошение и разрешение на вступление в брак подследственных арестантов Макара Комиссарова и Марии Новичковой, находящихся в Чистопольской тюрьме. Разрешение было дано Главным тюремным управлением Министерства юстиции Российской империи. Вот только из документов непонятно, было у них венчание, или обошлись лишь записью в церковной ведомости. Что касается арестантов-мусульман, то к ним в назначенные дни приходил мулла местного прихода. Кроме того, во время мусульманских праздников такие арестанты могли посещать соборную мечеть. Интересный случай произошел с прихожанами — арестантами чистопольской тюрьмы в 1894 году, еще до освящения строящейся церкви. В штате тюрьмы отсутствовал священник, и в таких случаях места заключения посещал священник одной из городских церквей, в Чистополе это был отец Сергий Казанцев, священник Спасской церкви. Вот что писал начальник Чистопольского тюремного замка в своем рапорте казанскому губернскому тюремному инспектору: «Содержащиеся во вверенной мне тюрьме арестанты православного и магометанского вероисповеданий, по чувству искренней преданности Его Императорскому Величеству Государю императору, заявили мне желание совершить молебствие о ниспослании исцеления Его Величеству от постигшей его болезни. Сего числа в 10 часов утра, согласно изъявленного желания арестантов, в тюрьме отслужили молебствия для православных священником Спасской церкви г. Чистополя Сергием Казанцевым, а для магометан указным муллой Мухаммедом-Назим Амирхановым». Забегая вперед, скажу,что обоим этим религиозным деятелям позднее пришлось хлебать баланду в Чистопольской тюрьме — от сумы, да от тюрьмы…В 1896 году было завершено строительство полукаменной колокольни. Нижний ярус колокольни был каменным, верхний — деревянным. Церковь была бесприходная, внештатная. Спасо-Преображенская церковь имела большую и «содержательную» библиотеку книг и журналов, посетители отмечали также изящный иконостас и большое количество икон. Церковь могли посещать не только арестанты, но и члены Тюремного комитета и конвойная стража.
Большинство фотографий я переснял в Музее Следственного изолятора №5, так сегодня называется Чистопольская тюрьма. Спасибо огромное сотрудникам и руководству учреждения, за полученное разрешение!
Это фото, все-таки, не нашего, Чистопольского тюремного замка, вокруг нашего никогда не было каменной ограды. Но такое же, типовое:
Фото из музея СИЗО №5 Рисунок лицевого фасада Спасо-Преображенской церкви. Она сохранилась в неизменном виде. Только левую часть обезобразил пристрой: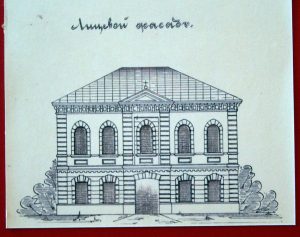
Фото из Музея СИЗО №5. Фрагмент камеры: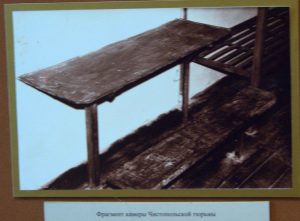
Фото из Музея СИЗО №5. Фрагмент карцера: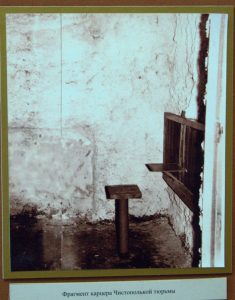
Фото из Музея СИЗО №5
Разрешение на брак подследственных арестантов:
Фото из Музея СИЗО №5
Старший надзиратель: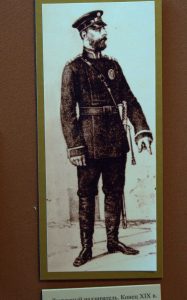
От сумы, да от тюрьмы… (часть 2)
#нашчистополь #экскурсиипочистополю #чистопольскаятюрьма
Не следует считать себя неуязвимым, защищенным от какого-нибудь несчастья…
К концу XIX века Чистопольская тюрьма являлась крупнейшей уездной тюрьмой Казанской губернии. На территории тюрьмы располагался сам тюремный замок, Спасо-Преображенская церковь с колокольней, баня, дом начальника тюрьмы, корпус кулеткацких мастерских. Максимальное число заключенных, могущих разместиться в конкретном месте заключения, зависело от нормы кубического содержания воздуха в тюремных помещениях. Согласно циркуляру Главного тюремного управления от 25 сентября 1879 г. за № 2677, на каждого арестанта должно было приходиться не менее двух кубических саженей воздуха (длина сажени — 2, 16 метра, считайте сами). В Чистопольской тюрьме согласно нормам ГТУ могло содержаться до 140 арестантов. Для их размещения чистопольская тюрьма имела 24 камеры. Кроме того, в тюремном замке имелись два карцера — по одному на втором и третьем этажах, это были угловые холодные неотапливаемые одиночки, карцер, контора, помещения для надзирателей и кухня, да, еще и теплые клозеты на каждом этаже! Управление как губернскими, так и уездными местами заключения осуществлялось тюремной администрацией в лице начальника и его помощников. В штат тюремных служащих входили также надзиратели, священник и врач. Так в штате Чистопольской тюрьмы поначалу было 6 надзирателей: 1 привратник, 2 постовых, 1 выводной и 1 запасной. Старший надзиратель кроме руководства своей командой еще и заведовал цейхгаузом арестантских вещей.
Распределение арестантов по камерам не только Чистопольской, но и в остальных тюрьмах Казанской губернии не было подчинено какой-либо системе, род и степень тяжести совершенного преступления могли совершенно не браться во внимание. На практике это означало, что в одной камере могли соседствовать вор-рецидивист и нарушитель незначительного запрета на уличную торговлю. Все это негативно влияло на моральный облик тех арестантов, которые считались менее «испорченными». Кроме духовных бесед, нравственным воспитанием должны были способствовать и книги из тюремной библиотеки. Что читали узники Чистопольской тюрьмы? Кроме духоподъемных книг — «Руководство узника к молитве», «Слово и беседы святых отцов и учителей церкви», «Программа по закону Божьему» протоиерея Е. Попова, в тюремной библиотеке можно было прочесть и вполне светскую литературу — «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина, «Кавказский пленник» Л.Н. Толстого, «Барышня-крестьянка» и «Станционный смотритель» А.С. Пушкина, исторические очерки о Екатерине II, Иване IV Грозном, Петре I. Вот только грамотность «сидельцев» подкачала. По статистическим данным 1902 года среди 194 арестантов Чистопольской тюрьмы русской национальности грамотных было всего 9 и 57 полуграмотных, а среди 131 арестанта татарской национальности грамотных было 9, да и те знали грамоту лишь на своем языке, и еще один полуграмотный.
Еще одной формой исправительного воздействия на арестантов были тюремные работы. Внутренние работы в тюрьмах Казанской губернии состояли в плетении лаптей и веревок, шитье сапог, женском рукоделии, изготовлении циновок, вязании сумок. Были распространены также переплетные, малярные, плотницкие и столярные работы. Ну, а в тюрьме хлебной столицы Закамья изготавливали, конечно, зерновые кули.
В нашей Чистопольской тюрьме, располагавшейся на пересыльном тракте, всегда было большое количество каторжан, ждавших составления партии для дальнейшей отправки в места отбывания каторги, или на поселение. При этом с пересыльными арестантами нередко содержались их малолетние дети, вынужденные сносить тяготы заключения вместе с родителями. Остальные заключенные содержались под стражей за совершение общеуголовных преступлений, среди которых преобладали различные виды краж, подлоги, мошенничество. Арестантов, содержащихся под стражей за совершение преступлений политического характера, было очень немного. Однако в связи с революционными событиями 1905-1907 годов, тенденция коренным образом поменялась. В 1906 году содержалось уже 9 политических арестантов: 6 подследственных и 3 срочных, среди них 3 сельских учителя, 2 типографских работника, 1 сельский писарь, 2 члена Государственной Думы — Гариф Сиразетдинович Бадамшин и Маркел Несторович Герасимов и мулла Первой соборной мечети Махаммад-Назип Амирханов. Содержание политических заключенных в уездных тюремных замках стало более частым явлением. Здесь временно содержались до отправки по этапу в Сибирь участники студенческих волнений, общественные деятели и участники национального движения среди татарского населения. Среди наиболее известных «сидельцев» Чистопольской тюрьмы этого периода можно вспомнить уже упомянутого члена Государственной думы первого и второго созывов Гарифа Бадамшина, обвиненного в конце 1906 г. в распространении Выборгского воззвания — обращения от 9 июля 1906 года. Обращение «Народу от народных представителей» было составлено в городе Выборге и подписано значительной группой депутатов Государственной думой I созыва через 2 дня после её роспуска указом Императора Николая II. Воззвание призывало к гражданскому неповиновению властям — не платить налоги, не ходить на службу и тому подобное. Прежде чем ругать «царскую» тюрьму, кричать сатрапы, угнетатели, вешатели, представьте, на минуточку, что было бы с этой группой, (хотя сегодняшних депутатов там в принципе быть не может, они по другую сторону баррикад), обратись они с подобным воззванием сегодня. И, кстати, «Выборгского воззвания» Гариф Бадамшин не подписывал, он находился по своим торговым делам в Шереметьевке, что неподалеку от Чистополя.
Еще одной яркой фигурой, в декабре 1906 — феврале 1907 года отбывавшей наказание в нашей же Чистопольской тюрьме, был известный татарский писатель и политический деятель Гаяз Исхаки. Судебные власти предъявили ему обвинение по 129 статье Уголовного уложения — революционная пропаганда. Гаяз Исхаки известен еще и тем, что находясь в заключении он написал свою знаменитую повесть — «Зиндан», рукописные странички которой выносил в сапоге тюремный сторож. «Бедные мои бумаги, — писал Гаяз Исхаки, — добравшись до воли, они становились помятыми и потрепанными, словно вояки, прошедшие через множество сражений!». Повесть эта замечательна тем, что мы видим жизнь Чистопольской тюрьмы глазами ее узника. Как бы мы узнали, как она выглядела, каков ее распорядок дня, каковы условия содержания арестантов? Позволю себе несколько выдержек из нее.
«Узилище находилось на окраине города за высокой каменной стеной. За оградой возвышалась церковь, под которой было двое ворот. На улицу выходили деревянные, а внутренние были из железа. Между воротами, под церковью две конторы и квартира старшого. Каменное здание, выкрашенное в белый цвет, находилось в 10-15 саженях от ворот. Окна снаружи были забраны железными решетками… Мы с надзирателем поднялись по извилистой сумрачной лестнице с каменными ступенями… Камера была подобием темных грязных номеров старухи Бади в Казани. Были похожие нары и, как и там, отсутствовала всякая мебель. И краска на стенах была такая же блеклая. Если что-то отличалось от номеров Бади, так это очень широкие окна, стекла которых состояли из множества кусков, скрепленных между собой. Окна были забраны железными решетками. Таз на полу, кумган, одеяла и подушки на нарах были такие же, все в заплатах». Надо заметить, что условия содержания в Чистопольской тюрьме были очень даже либеральные- два раза в день часовые прогулки по тюремному двору, чаепития между прогулками, возможность принимать посетителей. Особенно изменилось отношение к узникам после выборов во II Государственную Думу, куда был выбран бывший сокамерник Гаяза — Гариф Бадамшин. ( Опять мысленно перенеситесь в настоящее). Снова строки из «Зиндана» Исхаки.
«Из гадкого узилища воров и убийц с грязной руганью тюрьма превратилась в некое подобие номеров, где проживают бедные студенты. Теперь мы, как в гостинице, свободно ходили из камеры в камеру в гости, гоняли чаи и непринужденно общались. Нам стали открывать дверь в любое время дня и ночи… Наше тюремное начальство было снисходительно к нам и позволяло многие вольности, невозможные в других тюрьмах. Обысков, как в других тюрьмах, здесь не стало, и мы могли держать в камерах все, что нам было нужно… В дозволенные дни, сколько бы посетителей не было, впускали всех, достаточно было сказать, что они родственники…Сегодня, 10 февраля, мне исполнилось двадцать девять. Друзья поздравили меня. Часов в 10 я пригласил самых близких из них и угостил чаем. После обеда часа в 3 меня позвали в гости. Там я опять пил чай». А эта фраза писателя Исхаки совсем уже добивает представление о царских тюрьмах: «Теперь мы старались пить чай не чаще двух раз в день, поскольку он плохо влияет на сон». Выходит, остальные условия содержания в Чистопольской тюрьме влияли на сон меньше, чем частое чаепитие».
Справедливости ради, нельзя не сказать, что меры наказания, конечно же были. Это и заключение в одиночной камере, заключение в карцере, лишение горячей пищи, оставление на хлебе и воде, применялись и кандалы в целях предупреждения побега. Так в 1902 г. в Чистопольской тюрьме было 126 случаев дисциплинарных наказаний, что, конечно же немало. В июне 1912 года, в нашей же тюрьме ссыльнокаторжный арестант Лазарь Комаров покушался на жизнь надзирателя Сергея Шмигова, нанеся тому несколько ударов железной заточкой в форме ножа. Надзиратель отделался легкими ранениями, а Комаров был обезврежен подоспевшим арестантом!, бывшим полицейским служителем Карповым, (от сумы, да от тюрьмы…) В результате данного инцидента исполняющий должность начальника Чистопольской тюрьмы Суворов был подвергнут аресту на гауптвахте. Были и попытки побегов. Так в ночь с 5 на 6 ноября 1904 года три арестанта — Краснов, обвиняющийся в убийстве, Румянцев и Вилаев, обвиняющиеся в кражах, перепилив решетку окна смогли выбраться за пределы тюрьмы. Осенью 1912 года арестант из мещан Михаил Алексеев пытался бежать при помощи свитой из белья веревки с крыши тюрьмы, куда он попал через чердак. Попытка оказалась неудачной, спускаясь вниз, арестант упал и сломал ногу, после чего был схвачен подоспевшей стражей. Два последних были уже в наше время. В первом случае беглецы сумели добраться до Шурана и попроситься на ночь к одинокой бабульке, жившей на краю села. На Руси, как известно, всегда жалели «сидельцев». И если бы не пропажа старого болоньевого плаща, прихваченного утром одним из беглецов, еще неизвестно, как бы повернулась их судьба. Хватившаяся пропажи бабулька побежала к участковому, тот поднял тревогу, и вскоре беглецы были пойманы. Во втором случае бежавшим с помощью местного жителя удалось переправиться через Каму, но в результате быстро организованного поиска, оба беглеца были пойманы в закамском лесу.
Та самая дверь, через которую арестанты и подследственные попадали внутрь тюремного замка. Сейчас ее называют «старый шлюз». Это ее описал Гаяз Исхаки в повести «Зиндан». здание, в котором находятся ворота в тюрьму — тюремная церковь:
Вот само здание Спасо-Преображенской церкви:
Фото из Музея СИЗО №5. Вызывает изумление этот портрет арестанта. Где и когда, и кто его снимал? Фото, сожалению, так наклеено на фирменный картон. что не видно, в какой типографии сделано это фото: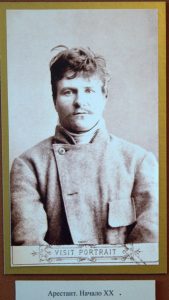
Фото из Музея СИЗО №5 Рапорт о награждении одного из надзирателей медалью «За беспорочную службу в тюремной страже»: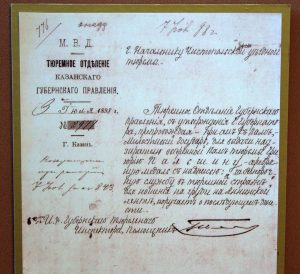
От сумы, да от тюрьмы… (часть 3)
#нашчистополь #экскурсиипочистополю #чистопольскаятюрьма
Не следует считать себя неуязвимым, надежно защищённым от какого-либо несчастья…
Кроме тюремного замка город Чистополь имел еще несколько зданий, в которых содержались арестанты и подследственные. Во внутреннем дворе дома по Екатерининской — здания Присутственных мест (К. Маркса 27), в котором разместилось полицейское управление, почта, телеграф и казначейство, находилось строение, в цокольном этаже которого содержались арестанты, осужденные городскими судами по краткосрочным статьям и подследственные. Это сохранившееся до нашего времени здание некоторый контингент горожан знает как «приемник», или, попросту, вытрезвитель. В конце XIX века, после того, как Земская управа вселилась в дом Челышева на Екатерининской (сегодня К. Маркса 30), по соседству было выстроено еще одно здание для содержания арестантов. В 1884 году председатель Земской управы Илиодор Порфирьевич Рожественский представил Земскому собранию целый доклад о необходимости строительства в Чистополе арестного дома. Техник губернской управы М. Крылов разработал проект здания для содержания 20 арестантов — 15 мужчин и 5 женщин. На первом этаже предусматривались комнаты смотрителя и женские камеры, на втором — камеры для мужчин и подследственных, а также карцер. Не забыли даже погреб и цейхгауз. В доме отбывали арест по приговорам судебной палаты, уездного суда, земских начальников и городских судей. Горожане называли его ДомЗак. В нем успел посидеть, правда недолго, говорят дня три, мой прадед Хрисанф Данилович Зимников, попавший туда уже после революционных событий по доносу своего беспутного брата Митьки. Дескать, куркулем стал, разбогател на строительном подряде, а бог делиться завещал. Позднее, уже в 20-х годах, по настоянию Дмитрия Дмитриевича Авдеева, занимавшего тогда должность руководителя лечебного подотдела районного отдела здравоохранения, это здание было отдано под городскую баню. Пастернак, Тренев, Федин и другие эвакуированные писатели вероятно и не подозревали, что они моются в бывшем арестном доме.
После Февральской революции одним из первых указов Временного правительства из тюрем, каторг и ссылок были освобождены все политические заключенные. А вот в числе первых декретов новых властей в ноябре 1917 года было условно-досрочное освобождение большинства осужденных за уголовные преступления. Тюрьмы же стали заполняться особой публикой – купечеством, офицерством и интеллигенцией, и Чистопольская тюрьма, ставшая Исправительным домом, не была исключением. Для обвинения в контрреволюции достаточно было социального признака. Но эта особая тема, неисчерпаемая, не для короткой статьи. В тот период тюрьмами в Казанской губернии ведал Карательный отдел (КарОт), переименованный вскоре в Центральный исправительно-трудовой отдел (ЦИТО), входивший в Наркомат юстиции.
После Великой Октябрьской Социалистической Революции, а для кого-то Октябрьского переворота, страна погрузилась в пучину Гражданской войны, и Чистопольская тюрьма была востребована как «красными»,так и «белыми». Она повидала и бывших Почетных граждан города, именитых купцов, участников «вилочного» восстания, мародеров и грабителей, державших город в страхе, бандитов и самогонщиков, совслужащих-растратчиков, сектантов и дезертиров. Посидел в остроге и бывший председатель Чистопольской земской управы Александр Анатольевич Нератов.
Во времена начавшейся в 1928 году коллективизации Чистопольская тюрьма очень быстро заполнилась раскулаченными крестьянами. Затем пришел черед священнослужителей, потом «троцкистов», потом «вредителей», потом перемещенных поляков, немцев, евреев. О этом ужасном времени повествует книга нашего земляка, выходца из села Старое Иванаево Алексея Степанова — «Расстрел по лимиту». Поищите, особенно те, кто тоскует по временам порядка. Именно тогда в нашей тюрьме была оборудована «расстрельная» комната. Да, вопреки сложившемуся мнению, расстрелы с 1937 по 1945 годы проводились и в Чистопольском тюремном замке. Для расстрелов была оборудована специальная комната на первом полуподвальном этаже в правом крыле старого здания тюрьмы. Помещение было обито толстыми войлочными матами, пол застилали огромным куском клеенки. У окна стоял транспортер с резиновой лентой, нацеленный в окно. Расстрельная команда состояла из пяти человек. Один из «специалистов» благополучно дожил до 80-тых годов, это его воспоминания, вы сейчас читаете. Расстрел производился выстрелом в затылок приговоренного. Стреляли, поначалу, из револьвера, в соответствии с протоколом. Тупая револьверная пуля при неправильном прицеливании зачастую оставляла много следов, которые потом приходилось убирать, и был подан рапорт с просьбой разрешить производить расстрелы из пистолета «ТТ». Рапорт удовлетворили. Труп бросали на ленту транспортера и перемещали на тюремный двор. Иногда транспортер ломался, тогда на помощь звали специального человека по прозвищу «Полтора Ивана». Это был надзиратель огромного роста и необыкновенной силы. Он просто выкидывал труп через окно, а дальше убитых уже грузили в кузов полуторки. Хоронили на старом кладбище, просто сбрасывая трупы в яму и пересыпая известью. Сегодня на одном из массовых захоронений установлен Покаянный крест. Ежегодно, 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, встречаются возле Покаянного креста те, кому дорога память о безвинно погибших, те, кто не хочет и не может забыть историю своей страны, ее черные страницы. К сожалению, нас остается все меньше и меньше.
Во время Великой Отечественной в Чистопольской тюрьме содержались дезертиры от воинской и трудовой повинностей. В октября 1941-го в Чистополь прибыли заключенные и подследственные Московских тюрем: Таганской, Бутырской и Лефортовской, а также контингент Харьковской колонии. Всего из Москвы и было переведено 1836 заключенных — значительно больше, чем деятелей искусства. Разместили их, забив под завязку тюремные камеры, остальных отправили в Казанско-Богородицкую (кладбищенскую) церковь. превратив ее в тюрьму. Забор, колючая проволока, вышки, часовые — все как полагается. Внутри четырехярусные нары, параша. Помните об этом, когда бываете в этой церкви. Перелимит колоний и тюрем в республике оставлял в тот период 300 — 400 процентов. Смертность была высочайшей, за один только 1943 год в Чистопольских тюрьмах умерло 1123 человека. После войны контингент Чистопольской тюрьмы пополнили участники украинского националистического движения — ОУНовцы, и члены их семей, в том числе отец, мать и сестра командующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.
Тогда же в Чистопольской тюрьму стали прибывать граждане страны, оказавшиеся в немецком плену или проживавшие в оккупированных районах, из числа тех, кто не прошел фильтрационную проверку. Вновь появилось большое количество священнослужителей, но теперь уже из западных «вновь присоединенных территорий». Их чаще всего признавали душевнобольными, именно тогда Чистопольская тюрьма стала специальной психиатрической больницей тюремного типа, коей была до 1953 года. Таких в СССР было всего три — в Ленинграде, Казани и в нашем Чистополе.
Ну, а в эпоху развитого социализма самые интересные арестанты Чистопольской тюрьмы — это раскрытые шпионы, да, были здесь и такие, и политические заключенные, которые стали обживать камеры Чистопольской тюрьмы с 1978 года. Перед Московской олимпиадой этих узников совести массово перевели в провинциальный, далекий Чистополь, подальше от спортивного праздника и глаз вездесущих журналистов.
Более позднюю историю Чистопольского тюремного замка мне не хочется описывать, по той простой причине, что историей-то она еще и не стала. Что-то мне подсказывает, что многострадальная история России еще не дописана, и не за горами очередной ее перелом, что Россия еще воспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут, конечно, не наши, но имена. Что она все же возвратиться в сообщество цивилизованных стран, забудет, как страшный сон, нежную дружбу с Северной Кореей, Венесуэлой и Сирией. Продолжение следует, надеюсь…
Справа виден фасад того самого ДомЗака, перестроенного потом в общественную баню:
От сумы, да от тюрьмы… (часть 4)
#нашчистополь #экскурсиипочистополю #чистопольскаятюрьма
Не следует считать себя неуязвимым, надежно защищённым от какого-либо несчастья…
История оставила нам фамилии некоторых персонажей, побывавших в качестве арестантов в Чистопольском тюремном замке.
Вспомним известных сидельцев Чистопольской тюрьмы.
Судя по всему первыми известными нам узниками, вернее, временными квартирантами, могли быть житель села Чистое Поле Яков Логутов и житель села Булдырь Семен Семенов, следующие по этапу на поселение «в дальнейшие в Сибири места». Именно их объявили зачинщиками крестьянского бунта. А дело было в следующем. Как известно, крестьяне села Чистое поле, как и соседних прибрежных сел и деревень, были государственными, и обязаны были отработать на Авзяно-Петровских уральских металлургических заводах определенное время. «Высочайшим Ея Императорского Величества манифестом 1779 года 21 мая… за перевозку руд и флюсов и за рубку дров» полагалась поденная оплата. Хозяева заводов же, желая заставить крестьян работать побольше, а платить им поменьше, установили им оплату « по росчислению», фактически сдельную. Вот крестьяне в количестве 61 человека и взбунтовались. А зачинщиками признали нашего Якова Логутова. Из рапорта товарища губернатора Папавы. « По приезде в село Котловку…села Чистаго Поля крестьянин Яков Логутов против его, Папавы, наклонясь и положа руку свою себе на затылок, сказал, что Краснов (выборный сотник) и Демидов (владелец заводов) тут у них у всех сидят…А при чтении копии вышеупомянутого последовавшего из правительствующего Сената указа вдруг все стоящие там сделали меж собой шопот, потом из них села Булдыря Семен Семенов и вышесказанный Яков Логутов кричали, что не подпишутся и прочих не допустят, отчего и все в смятение пришли». Короче говоря, всех бунтовщиков препроводили в губернский арестный дом, а зачинщиков, 15 человек, в их числе крестьян села Чистаго Поля Якова Логутова, Нефеда Антипина и Якова Маслова постановили «содержать при губернской канцелярии, скованных за караулом до получения.. об них указа». Остальных 46 человек «по истолковании им пред губернской канцелярии законов высочайших отпустить с билетами в домы… Выборного Ивана Степанова сына Баженова… наказать пред канцелярией плетьми и отпустить в жительство… А ежели впредь при отправлении на работы отговариваться чем будут, наказать их там в жительстве, где ослушность окажется, плетьми соразмерно вине и летам их… А крестьян Якова Логутова и Семена Семенова, обоих сих грубейших, отослать в дальнейшие в Сибири места, хоть в поселение, только с женами их без детей»… И пошли Яков Логутов и Семен Семенов по этапу, по великой Кандальной дороге, по древнему Караванному пути, через острог Чистопольский в «дальнейшие в Сибири места».
Еще один «сиделец» Чистопольского острога — Дамелла Назип-хазрат, так называл Гаяз Исхаки Мухаметназиба Хусаиновича Амирханова — имама Первой Соборной Мечети. Сидел в 1906-1907 годах. Выходец из старинной династии мусульманских священнослужителей. Имел звания имама, хатыба и мударриса, присвоенные ему Оренбургским мусульманским духовным собранием. До своего назначения в Чистополь Назип Амирханов исполнял обязанности муллы в мечети «Иске Таш» в Казани. Позже по его инициативе в Чистополе в 1911 году было открыто новометодное женское медресе «Амирхания». Принадлежал к партии эсеров — это из Википедии. Был одним из передовых общественных деятелей города, находился под негласным надзором царской охранки. В декабре 1906 года Назип-хазрат Амирханов был арестован за организацию собрания горожан в связи с подготовкой к выборам в Государственную думу — в его доме была найдена прокламация и брошюра на татарском языке под названием «Полновластная Государственная Дума». Однако, прокурор Казанского окружного суда не нашел! (можете себе сегодня такое представить?) достаточных оснований к возбуждению уголовного преследования, и Мухамметназип Амирханов был освобожден 13 февраля 1907 года. После освобождения имам-хатыб вернулся на духовную службу.
Не каждая тюрьма может гордится содержанием в ней под стражей бывших членов и депутатов Государственной думы. Чистопольский острог может.
Маркел Несторович Герасимов. Крестьянин из деревни Бурнашево нашего Чистопольского уезда. Начальное образование получил дома. Служил сельским писарем. Проводил беседы с односельчанами на общественные темы, из-за чего находился «на большом подозрении у полиции». У односельчан пользовался авторитетом.
14 апреля 1906 избран в Государственную думу I созыва. Состоял в партии кадетов — конституционных демократов. В Думе он был активным членом Трудовой группы. Поставил свою подпись под 26 запросами к правительству от фракции трудовиков. (Фракция трудовиков — Трудовая группа, стремилась бороться за интересы и отражать настроение всего трудящегося народа, объединяя главным образом три общественных класса, которые она причисляла к трудящимся: крестьянство, рабочий пролетариат и трудовую интеллигенцию). В думских комиссиях не состоял.
Вернулся на родину после роспуска Думы, был под надзором полиции. В результате проведённого обыска у Герасимова изъята стенографические отчёты, книги и брошюры, купленные в магазине, и переписка. Привлечён к уголовной ответственности по статье 132 Уложения о наказаниях, но 8 декабря 1906 суд полностью оправдал Герасимова. Через четыре дня, ночью 12 декабря 1906 у Герасимова опять проведён обыск, были вновь изъяты письма и несколько нелегальных брошюр. Возбуждено новое дело по обвинению бывшего депутата во «вредной в политическом отношении деятельности» (статья 130 Уложения о наказаниях). Был помещён в Чистопольскую тюрьму, в которой сидел вплоть до 18 февраля 1907 года, то есть до окончания выборов во Вторую Думу. Существенных оснований для привлечения Герасимова к судебной ответственности опять собрать не удалось. Решением министра внутренних дел в феврале 1907 дело в отношении Герасимова прекращено, после чего Герасимов был освобождён из заключения, но по-прежнему был оставлен под негласным надзором полиции и несколько раз подвергался обыскам. Чтобы избежать продолжающихся преследований бывший депутат был вынужден оставить свою деревню и скитаться два месяца без определённого места жительства.
Гариф Сиразетдинович Бадамшин, депутат Государственной думы I и II созывов от Казанской губернии. Родился в 1865 г. в чувашской крестьянской семье деревни Новые Челны Спасского уезда. Вероисповедания мусульманского. Был учеником в Чистопольском медресе, но курса не окончил. Получил домашнее начальное образование. Значительную часть жизни прожил в нашем Чистополе. Земледелец, занимался торговлей мануфактурой, владелец галантерейного магазина. Имел собственный дом на Первой Татарской, сегодня — Вахитова 69. Придерживался джадидистских идей. Надо пояснить, что джадидизм, новая ветвь исламской идеологии, появился в самом конце XIX века. Это радикальное учение предполагало новые методики обучения в исламских училищах — медресе, право самостоятельного творческого прочтения корана. Джадидисты полагали, что ислам не запрещает европейской одежды и равноправия женщин. Ценностью джадидистов был позитивистский прогресс, который осуществляется в интересах страны и народа. Гариф Бадамшин постоянный участник собраний чистопольских мусульман. В 1905 году — соавтор петиций и ходатайств от мусульман Чистополя, посетил с делегацией мусульман Санкт-Петербург. Пользовался популярностью у местного населения. 14 апреля 1906 года был избран в Государственную думу I созыва. Входил в Трудовую группу (104 депутата) и в Союз автономистов. Напомню, что Трудовая группа вынесла на обсуждение проект, в котором заявлялась необходимость решить аграрный вопрос посредством передачи земли в руки трудящихся, а политические вопросы — посредством всеобщего и равного избирательного права, с прямым и тайным голосованием. (Опять же соотнесите с сегодняшним временем, что сегодня можете вы, избиратели?). Ну, а Союз автономистов, как и следует из названия группы, требовал широкой автономии национальным губерниям Российской империи.
Из речи члена Государственной Думы Российской империи первого созыва Гарифа Салихзяновича Бадамшина: «Всем известно, что наша Россия состоит из разных народностей и вероисповеданий. После православного народа – самого большого элемента – мусульман насчитывают до 25 миллионов душ. Затем идут поляки, евреи и другие национальности. Поэтому старорусские слова «Россiя – для русскихъ» – устарели. Мы теперь обращаемся к справедливости. И она нам скажет так: Россия – для всех, кто в ней живет». Во время роспуска Думы был по торговым делам на ярмарке в селе Богородском (наша Шереметьевка) — дела предпринимательские оказались важнее политических. Там по предложению местных жителей выступил перед собравшимися крестьянами с речью о деятельности Думы. Таким образом, вопреки сложившемуся мнению, не участвовал в выработке «Выборгского воззвания». Его подписи под ним нет. Тем не менее был взят в административном порядке под полицейский надзор. В декабре 1906 года был арестован по обвинению в «противоправительственной» пропаганде и распространении «Выборгского воззвания». Содержался в Чистопольской тюрьме в одной камере с Гаязом Исхаки, Мухамматниджибом Амирхановым, Фуатом Туктаровым и Маркелом Герасимовым. Обладатель уникальной коллекции фотографий старого Чистополя — Талгат Эфенди Тәлгәт Әфәнде , переслал мне фото ключа от камеры, где сидел цвет не только чистопольских, но можно сказать, и губернских революционеров. В январе 1907 года был освобождён по распоряжению министра внутренних дел Петра Аркадьевича Столыпина. Арест и пребывание в тюрьме принесли Бадамшину громкую репутацию выразителя народных интересов, что помогло ему в избрании во II Государственную думу. Бадамшин на этот раз стал одним из организаторов созданной в Госдуме «Мусульманской трудовой группы», а также возглавил мусульманскую фракцию в бюджетной комиссии. Как известно, сроки работы II думы были также не слишком велики- всего 102 дня, после чего за чересчур либеральные взгляды II Государственная дума разделила участь первой — была распущена.
Вернувшись в Чистополь, Гариф Сиразетдинович снова занялся торговыми делами. В феврале 1908 года за хранение нелегальной литературы его арестовали и посадили в тюрьму. Бывшему депутату грозила высылка «на три года в северную губернию без мусульманского населения, без права возвращения в Казанскую губернию». Избежал он ссылки благодаря вердикту врачей о неудовлетворительном состоянии здоровья осуждённого. В 1909 году издал брошюру «Ислам, или Ответ тем, кто выступает против Ислама». Гарифа Бадамшина пыталась гнобить и царская охранка, и новый большевистский режим. В опубликованных беседах с сыном Гарифа Сиразетдиновича — Хамитом Бадамшиным есть воспоминания о революционных событиях в Чистополе.
«Идет горячее лето 1918 года, разогнано Учредительное собрание, подавлен мятеж левых эсеров в Москве, советская власть висела на волоске, на огромном пространстве от Волги и до Дальнего Востока вспыхнул мятеж чехословаков… В Чистополе в доме Бадамшина (Вахитова 69, видели на этом доме мемориальную табличку?) нашли приют Гаяз Исхаки, Фуад Туктаров и Валидхан Таначев — члены разогнанного большевиками Учредительного собрания. Гаяз Исхаки приехал из Москвы после того, как по настоятельному требованию Мулланура Вахитова была закрыта его газета “Иль” ввиду ее “контрреволюционности”… В стране начались превентивные аресты потенциальных врагов советской власти и заложников…Во время вечернего чаепития в окно дома постучали. Хозяин дома вышел во двор и вернулся через несколько минут бледный, как полотно. Прибегал сосед и друг Петр Логутов, его сын Федор работал в местной ЧК и предупредил, что звонили по телефону из Казани и сообщили о выезде пяти чекистов с ордерами на арест Исхакова, Туктарова и Таначева. Буквально через час работник Бадамшина Фатых на лошадях увез троицу на ближайшую железнодорожную станцию Шентала, где они сели на поезд. Вскоре все трое оказались в Самаре, где формировался КОМУЧ — Комитет членов Учредительного собрания». Укрывательство контрреволюционеров не было забыто Гарифу Бадамшину. Он был арестован 21 декабря 1932 года. Обвинение — статьи 58-10, 58-11 (участие в националистической повстанческой организации, руководитель Чистопольского филиала). Гариф Бадамшин к тому времени был уже тяжело болен, без посторонней помощи не мог передвигаться. И калеку пожалели. Тюрьма или ссылка его миновали. Реабилитирован в 2003 году.
Махмуд Фуат Туктаров, сокамерник Гарифа Бадамшина. Это его упомянул Гаяз исхаки в своей повести «Зиндан». Сын муллы Фасаха Туктарова, служившего в деревне Кульбаево-Мараса нашего Чистопольского уезда. Юрист, журналист, член Всероссийского Учредительного собрания, разогнанного большевиками. Вспомните знаменитую фразу матроса Железняка: «Караул устал». Окончил Чистопольское медресе, Казанскую татарскую учительскую школу (1904), юридический факультет Казанского университета (1915). Во время Революции 1905–1907 годов вступил в местное отделение партии эсеров. Псевдоним — «Злой». Участвовал в издании газет «Тан», «Тан юлдузы» в Казани. В 1907 году, сидя в Чистопольской тюрьме, попытался баллотироваться во 2-ю Государственную думу, но не прошел из-за политической неблагонадёжности. Тем не менее, работал в Думе в качестве нанятого секретаря мусульманской фракции, вёл документацию фракции, писал речи депутатам. Являлся организатором Мусульманской трудовой группы, при его участии трудовики выпускали газету «Дума». После Февральской революции 1917 года Фуат Туктаров один из лидеров татарского национального движения. Участник 1-го и 2-го Всероссийских мусульманских съездов. Оба съезда проходили нелегально. Первый — в августе 1906 года в Нижнем Новгороде во время прохождения традиционной новгородской ярмарки. Мусульмане Крыма, Кавказа, Казани, Урала, Туркестана и Сибири, всего около 120 человек, собрались на пароходе «Густав Струве», нанятого под видом пароходной прогулки. Фуат Туктаров, Муса Бигичев, тоже наш земляк, одни из видных представителей мусульман Казанской губернии. Первый съезд объединил мусульман различных регионов страны, и в этом его главная заслуга. Организатор и председатель Мусульманского комитета (1917–1918), редактор газеты «Курултай». Когда в Самаре в июне 1918 года был организован известный в истории комитет членов всероссийского учредительного собрания — КОМУЧ — первое антибольшевистское правительство России, его членом стал и Фуад Туктаров. Из его речи на одном из заседаний КОМУЧа: «На нас, татар, выпала тяжелая и неблагодарная задача — проповедовать новую веру в новые пути возрождения России, не только исповедовать ее, но и распространять ее, быть проповедником. Догмы этой веры выражаются очень кратко двумя словами: Россия возродится через национальности…В нем, в благоразумном государственном решении национального вопроса, по нашему глубокому убеждению, лежит путь спасения России и залог процветания в будущем»… Затем эмиграция — Китай, Франция, Германия, Турция. В Анкаре занимался журналистской и педагогической деятельностью, работал управляющим библиотеки при Министерстве просвещения Турецкой республики.
Николай Дерягин земский врач, кадет, баллотировался в Государственную думу II созыва. Не прошел. Это тот самый доктор Дерягин, которого чистопольцы больше знают по названию его дома — дом Дерягина, что на углу Екатерининской и Казанской (Маркса и Толстого) В этом доме на втором этаже находились номера «Европейские», а на первом — квартира самого врача, имеющего обширную частную практику, и врачебный кабинет. О его пребывании в Чистопольском остроге также рассказывает Гаяз Исхаки в своей повести «Зиндан».
Семья Наджибуллы Амирханова в саду его дома в Чистополе:
Группа депутатов II Государственной Думы Российской империи. Гариф Бадамшин стоит крайний справа:
Герасимов, слева, с членами Государственной думы I созыва:
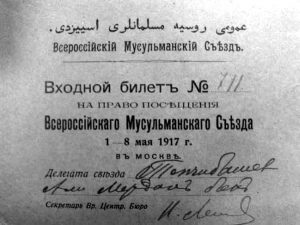
Рисунок Гаяза Исхаки из его повести «Зиндан»: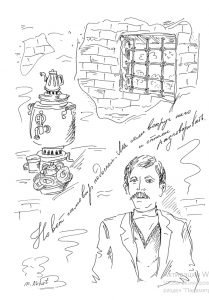
Фуат Туктаров, второй справа, с членами Трудовой группы Государственной думы II созыва: 
От сумы, да от тюрьмы… (часть 5)
#нашчистополь #экскурсиипочистополю #чистопольскаятюрьма
Не следует считать себя неуязвимым, надежно защищённым от какого-либо несчастья…
Продолжаю знакомить вас с известными «сидельцами» Чистопольского острога. Шестнадцать тысяч знаков, отведенных ВК на один пост категорически не хватает, и вот повествование об одном из лидеров татарского национального движения пришлось перенести в новый пост. Это я о Мухамметгаязе Исхакове, или, как чаще его называют — о Гаязе Исхаки.
Гаяз Исхаки. Я уже упомянул о его повести «Зиндан», которую Мухамметгаяз написал, пребывая в Чистопольской тюрьме. Личность легендарная и противоречивая, по крайней мере оценка его деятельности в разные времени колебалась от «врага народа» до «выдающегося сына татарского народа». Происходил от татар-мишар, как и многие татры Чистопольского уезда. Местом его рождения сегодня считается аул Яуширма Чистопольского уезда, но в постановлении на его арест, подписанным 27 декабря 1906 года Исправником Чистопольского уезда г-ном Илевским, Гаяз Исхаков называется крестьянином Самарской губернии Бугульминского уезда Кармалинской волости деревни Лашмайкиной. Несомненно весьма грамотный и образованный человек: до 12 лет обучался отцом, работающим муллой в деревне Яуширма.; затем 4 года учебы в Чистопольском медресе Мухамматзакира Камала, затем еще четыре года в медресе «Касимия» в Казани; и еще четыре года в в Казанской татарской учительской школе. Увлекался творчеством И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, М. Горького; перевел на татарский язык повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» и Н.В. Гоголя «Старосветские помещики». С осени 1902 г. преподавал в медресе «Хусаиния» в городе Оренбург. Летом 1903 г. вернулся в Казань, чтобы поступить в университет, однако по настоянию отца уехал в родную деревню, где исполнял обязанности муллы. К этому времени Гаяз Исхаки уже получил первый опыт борьбы с властью — в 1901 году по его инициативе было создано нелегальное общество «Шакирдлик», печаталась на гектографе газета «Таракки». Но религиозная деятельность никогда не увлекала Мухамматгаяза и в 1904 г. он вернулся в Казань, и с этого времени полностью посвятил себя общественно-политической и литературной деятельности. К этому времени Гаяз исхаки уже написал такие произведения, как «Девушка из шапочной мастерской», «Дочь нищего», «Сын богача», «Две любви». Почему-то считается, что произведений Гаяза Исхаки, переведенных на русский язык почти нет. Это неправда. Я без труда нашел в инете сборник его рассказов, и могу сказать, что получил удовольствие от чтения. Прекрасен в его рассказах и национальный колорит, и меткие и точные зарисовки быта и обычаев мусульман, живущих в России. Прочтите, не пожалеете, в конце, как обычно, дам ссылку. Конечно, хорошо бы прочесть эти рассказы в оригинале, но, увы, не владею. Вообще, в своих сочинениях Гаяз Исхаки поднимает темы, несвойственные для того времени, говорит, что первоосновой воспитания человека, социально-экономического и духовного прогресса общества являются Разум, Знание, Слово, критикует косные феодально-патриархальные и сословные традиции, семейный деспотизм, размышляет над проблемой угнетения женщин в татарских семьях, выступает против многоженства, защищает равноправие женщин в семье, сопоставляет концепции любви, брака, семьи, принятые у мусульман и в европейской культуре. И это прекрасно.
В 1905–1907 гг. Г.Г.Исхаки принимал активное участие в национальном движении, выступил организатором тайного шакирдского общества «Берек»; являлся лидером нелегальной политической организации татарской молодежи в Казани «Хоррият», организации татарских эсеров «Тангисты»; представлял молодых татарских радикалов на съездах партии российских мусульман «Иттифак аль-муслимин»; был фактическим редактором газет «Тан юлдузы», «Тавыш», «Тан мажмугасы».
За революционную деятельность, антиправительственные выступления 18 раз подвергался арестам, сидел в тюрьмах городов Чистополь, Казань, Москва, Санкт-Петербург, находился в ссылке в Архангельской губернии. В этой ссылке он и познакомился с ссыльным польским революционером, будущим польским военным и государственным деятелем, будущим главой Польского государства, будущим основателем польской армии, будущим маршалом Польши Юзефом Пилсудским. В перерывах между тюрьмами успел написать несколько пьес. Его классические драмы «Зулейха» и «Учительница» ставились на сценах татарских театров вплоть до 1923 года.
В мае 1917 года в Москве состоялся первый Всероссийский съезд мусульман. На съезде Гаяз Исхаки выдвинул идею национально-культурной автономии для тюрко-татар Поволжья и Приуралья – создание Урало-Волжского Штата (Идел-Урал Штаты). С 21 по 31 июля 1917 года в Казани проходили заседания одновременно трёх конгрессов: Военного Совета мусульман России, конгресса духовенства и Второго общемусульманского конгресса. 23 июля 1917 года было объявлено создание национально-культурной автономии татар Поволжья и Урала — штата «Идель — Урал». Свершилось! Но большевики, пришедшие к власти в результате Октябрьского переворота, думали иначе. Национальное управление, в котором Гаяз Исхаки руководил внешне-политической комиссией, было ликвидировано, типография управления разгромлена, редакционное имущество газеты Гаяза Исхаки «Ил» (Страна) конфисковано. Гаяз Исхаки ушел в подполье, а в 1919-м году эмигрировал. Париж, Берлин, Стамбул и, в 1927 году — Варшава. Помните Юзефа Пилсудского? Именно в Варшаве Гаяз Исхаки основал «Комитет Идель-Урал», вел уроки турецкого языка на восточном факультете Варшавского университета. В декабре 1931 – начале 1932 гг. Гаяз Исхаки участвовал в работе Всемирного конгресса мусульман в Иерусалиме, выступил с докладом о гонениях на ислам в советской России, закрытии мечетей, преследовании священнослужителей. Писать не переставал — главная тема его творчества в эмиграции — отстаивание идеологии возрождения национальной государственности татар.
Сегодня Гаяз Исхаки признается одним из создателей национальной идеологии, катализатором пробуждения национального самосознания, и, конечно, успешным и талантливым татарским писателем и драматургом. В июле 1999-го в селе Яуширма-Кутлушкино был открыт Историко-мемориальный и этнографический музей Гаяза Исхаки.
В Чистопольской тюрьме побывала еще одна личность, прямо-таки из серии «Пламенные революционеры». Речь идет о соратнике Владимира Ильича — Андрее Сергеевиче Бубнове.
Рафаил Хамитович Хисамов Рафаил Хисамов пишет, что Бубнов 5-го сентября 1908 года венчался в Преображенской церкви Чистопольского острога с дочерью чистопольского купца Мариной Константиновной Мясниковой. Семья Мясниковых, сочувствовавшая большевикам, финансово поддерживала живших в Швейцарии руководителей партии, а Мария Константиновна числится членом РСДРП с 1904 года. Но, вообще-то, Преображенская церковь была бесприходной, внештатной, посторонних верующих в нее не допускали, поэтому венчание могло происходить лишь в случае если один из венчающихся находился в заключении. О Марии Константиновне мало что известно, а вот Андрей Бубнов был завсегдатаем российских тюрем, его стаж з/к начался с 1905 года, так что, скорее всего именно он в 1908 году отбывал срок в Чистопольской тюрьме. Кем же был Андрей Бубнов? В Википедии он назван советским политическим, партийным и военным деятелем. Член ЦК партии в 1917—1918 и 1924—1937 годах. Руководитель ряда наркоматов УССР и СССР. Один из организаторов Ликбеза в СССР.
В РСДРП(б) Бубнов вступил в 1903 году. В 1905 году, вместе с Николаем Подвойским и Михаилом Фрунзе стал одним из вдохновителей и организаторов 72-дневной стачки иваново-воскресенских текстильщиков и создания первого в России Совета Народных Депутатов. За 12 лет участия в революционном движении – с 1905 по 1917 год – «Химик» — это партийный псевдоним Бубнова, 13 раз подвергался аресту, несколько лет провел в тюрьмах и ссылках. В октябре 1917 года он был избран в Военно-революционный партийный центр по руководству вооруженным восстанием. C 1918 года участник революционных событий на Украине. Председатель Киевского ревкома, комиссар Министерства внутренних дел Украины. Участвовал в разгроме Куреневского мятежа-вооруженного выступления крестьян пригородных сел против большевиков. Участник подавления Кронштадтского восстания, за что был награжден Орденом Красного Знамени. Сторонник лозунга превращения «империалистической войны в войну гражданскую». Последствия мы знаем.
В 1922-1923 годах А.С. Бубнов заведовал агитационно-пропагандистским отделом ЦК РКП(б). В 1924-1929 годах он начальник Политуправления РККА. В августе 1929-го назначен наркомом просвещения РСФСР. Именно при Бубнове ликвидация неграмотности у населения приняла массовую форму, организация всевобуча — это о Бубнове. Один из организаторов культпоходного движения, в который были вовлечены рабочие и колхозники, инженеры, врачи, агрономы, учителя, студенты и старшеклассники. К концу 1932 года в стране насчитывалось три миллиона культармейцев. Посмотрите кадры старой кинохроники — кажется вся страна маршировала на парадах в физкультурной форме. Что-то похожее сегодня призывают возобновить в наше время. Вспомните слова о «смычке города и деревни», точно также учебный процесс в школах был подчинен задаче получения производственных навыков, что привело к превращению массовой школы в «цех завода» и, как следствие, снижению уровня общеобразовательной подготовки школьников. Тем не менее, под его руководством в 1934 году было осуществлено всеобщее начальное обучение, а к 1937 году в СССР введено обязательное семилетнее обучение. Одновременно 1933—1934 годах председатель комитета по охране исторических памятников при Президиуме ВЦИК, что, конечно же, нам очень знакомо.
17 октября 1937 года, в период Большого террора, Андрей Бубнов был арестован. Обвинение — шпионаж в пользу Германии. В расстрельном списке фигурировало 138 шпионов. Расстрел подписали Сталин и Молотов.1 августа 1938 года приговорён к смертной казни. Расстрелян и захоронен в общей могиле на полигоне «Коммунарка».
Ярослав Гашек (Ярослав Ма́тей Франти́шек Гашек) — чешский писатель-сатирик, драматург, фельетонист, журналист, коммунист, комиссар Рабоче-Крестьянской Красной армии. Автор примерно 1500 различных рассказов, фельетонов и прочих произведений, из которых мировую известность получил его неоконченный роман «Похождения бравого солдата Швейка» тоже расписался на стене камеры Чистопольской тюрьмы.
Революционную свою деятельность Гашек начинал с погромов немецких магазинов в Праге. Был пойман немецким патрулем. Сохранилась записка 14-ти летнего Гашека: «Дорогая мамочка! Завтра меня к обеду не ждите, так как я буду расстрелян…Когда к нам придёт мой товарищ Войтишек Горнгоф, то скажите ему, что меня вели 24 конных полицейских. Когда будут мои похороны, ещё неизвестно». Отпустили. Бродяжничал, помогал болгарским повстанцам на Балканах. Писал. Кофейни, винные погребки, трактиры, ночные прогулки, стычки с полицией были неотъемлемой частью жизни Гашека. Эта его жизнь с блеском описана в «Похождениях Швейка». (Кстати, недавно перечел. Подивился многочисленному сходству в оценках происходящего. Не знаю, радоваться этому, или плакать). Из полицейских протоколов: «…вышеозначенный в нетрезвом состоянии справлял малую нужду перед зданием полицейского управления»; «в состоянии лёгкого алкогольного опьянения повредил две железные загородки»; «недалеко от полицейского участка зажёг три уличных фонаря, которые уже были погашены». На фронт Первой мировой Гашек, как и Швейк, отправился в арестантском вагоне — симуляцию ревматизма признали попыткой дезертирства и осудили Гашека на три года, с отбытием по окончании войны. 24 сентября 1915 года, в ходе контрнаступления русской армии на участке 91-го полка под Дубно, Гашек добровольно сдался в плен. Вскоре, подобно многим другим соотечественникам, Гашек вступил в Чешский легион. Именно этот легион, предназначавшийся для борьбы с немцами, был отправлен из района Поволжья, где он дислоцировался, в район боевых действий через Владивосток! Именно этот легион, по призыву Самарских эсеров, поучаствовал в Гражданской войне. Подразделение именно этого легиона — сербско-хорватский батальон под командованием Дибича, освободил в июле 1918-го наш Чистополь от власти Советов. К этому времени Ярослав Гашек уже вступил в партию большевиков — ВКП(б), и был направлен из Москвы в свое подразделения для проведения подрывной работы. На беду свою нелегкая занесла его в наш Чистополь. А поскольку формой одежды он ничуть не напоминал красногвардейца, да к тому же говорил по-русски с сильным акцентом, в Чистополе Гашек был задержан и препровожден в Чистопольскую тюрьму до выяснения обстоятельств. Красного комиссара Гашека освободили его же сослуживцы из Чешского легиона КОМУЧа, после чего Ярослав все же добрался до Бугульмы, где с присущим ему пылом вёл агитацию среди чешских легионеров, выступая против отправки во Францию,. Был заместителем коменданта Бугульмы, в 1920 году он занимал пост заведующего иностранной секцией политотдела 5-й армии и даже поучаствовал в Красном терроре. Знал немецкий, венгерский, русский, польский, сербский, и словацкий языки, был способен поддержать разговор на французском и даже на цыганском, редактировал бурятскую газету «Ур», даже не зная бурятского языка. «Был трижды повешен, дважды расстрелян и один раз четвертован дикими повстанцами киргизами у озера Кале-Исых». В 20-м году вернулся в Чехию.
Чешская пресса безоговорочно отнесла «Швейка» к аморальным книгам, которым нет места в приличном обществе. Тогда Гашек создаёт собственное издательство. К 1922 году первый том романа уже выдержал четыре издания, а второй — три. Но к 1923 году не выдержало здоровье Ярослава Гашека — четвёртая часть романа так и осталась неоконченной.
Обещанная ссылка на повести Гаяза Исхаки www.livelib.ru/book/85753...
«Старый шлюз» Чистопольской тюрьмы. Через эти ворота вступали на территорию тюрьмы все ее «сидельцы»:
Постановление об аресте Гаяза Исхаки. Фото из Музея СИЗО №5: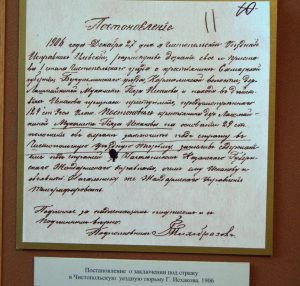
Нарком Андрей Сергеевич Бубнов:
Ярослав Гашек в форме австрийского солдата:
Ярослав Гашек в форме красноармейца:
Сведения о дисциплинарных взысканиях. Фото из Музея СИЗО № 5: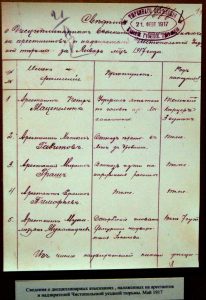
От сумы, да от тюрьмы… (часть 6)
#нашчистополь #экскурсиипочистополю #чистопольскаятюрьма
Не следует считать себя неуязвимым, надежно защищённым от какого-либо несчастья…
Задумывая цикл статей о Чистопольской тюрьме, я, поначалу, решил рассказать лишь о некоторых известных «сидельцах». Но — от сумы, да от тюрьмы…, да и обойти годы Большого террора, катком прокатившегося и по нашему Чистополю, было нельзя. Поэтому сегодня рассказ о обыкновенном жителе Чистопольского уезда, школьном учителе, которому довелось похлебать баланды в Чистопольском остроге. Эту историю мне поведал его внук, мой приятель со школьных еще времен.
Николай Иванович Виноградов. Родился в селе Старые Челны в 1895 году. Отец — псаломщик в местной церкви. Учился в Казанской семинарии, потом на учительских курсах. В 1918-м призван В Красную армию, но через 2,5 месяца комиссован по болезни. Работал учителем в начальной школе, потом заведующим в начальной школе, потом учителем и директором в семилетней школе села Русские Сарсазы Чистопольского района ТАССР. 21 июня 1938 года арестован и помещен на время следствия в Чистопольскую тюрьму. Обвинение — участие в антисоветской эсеровской организации, ставившей целью свержение Советской власти. Организация эта насчитывала девять человек. Ташевский Константин Петрович — заведующий детской технической станцией Чистопольского РОНО, Сухотин Александр Павлович, учитель немецкого языка школы №21, Мотков Алексей Тимофеевич, колхозник села Бурнашево Чистопольского района, Данилов Яков Ильич, пенсионер села Билярск, Прохоров Семен Михайлович, директор «Главхлеб» г. Чистополь, Урюпов Сергей Дмитриевич, учитель школы г. Чистополь, Дмитриев Матвей Евдокимович, Крылов Петр Осипович — про них я, к сожалению, ничего не смог найти, и сам Николай Виноградов. В книге «Расстрел по лимиту» Алексея Степанова есть упоминание о этой эсеровской ячейке в городе Чистополь, раскрытой и обезвреженной нашими доблестными органами. Организацией эсеров на территории бывшего Чистопольского уезда руководил агент немецкой разведки Фанагорский Александр Андреевич, преподаватель средней школы поселка Кукмор. А указания Фанагорский получал от резидента немецкой разведки(!!!) Марии Георгиевны Степановой-Кацари, дочери бывшего Гласного Чистопольской Городской думы Георгия Кацари, дворянки, бывшей помещицы, проживавшей в Казани.
Забегая вперед скажу, что резидент немецкой разведки Мария Георгиевна Степанова-Кацари арестовывалась дважды, второй раз обвинялась по статье 58-6 («шпионаж — связь с дочерью, проживающей в Америке»). Умерла в Казанской тюрьме 27 июня 1938 г. Ей было тогда 70 лет.
Агент немецкой разведки Фанагорский Александр Андреевич осужден Тройкой НКВД ТАССР по статье 58, п. 6, 58, п. 10 ч.1, 58, п. 13. («шпионаж, среди учеников восхвалял культуру, быт, жизнь в капиталистических странах»). Приговор — ВМН с конфискацией имущества. Расстрелян 15 ноября 1938 года.
Руководитель Чистопольской эсеровской ячейки Ташевский Константин Петрович осужден по статье 58, п. 10 ч.1, 58, п. 11. («участник к/р организации»). Приговорен к ВМН с конфискацией имущества. Расстрелян 26 сентября 1937 г.
Член Чистопольской эсеровской ячейки Сухотин Александр Павлович обвинялся по статье 58, п. 2, 58, п. 10 ч.1, 58, п. 11. («участник эсеровской организации»). Следствие шло два года Умер 30 марта 1939-го года в больнице Чистопольской тюрьмы №4 во время следствия.
Член Чистопольской эсеровской ячейки Мотков Алексей Тимофеевич арестован 9 февраля 1938 г. Обвинялся по статье 58-2, 58-10 ч.1, 58-11 («участник эсеровской организации»). Дело прекращено за недостаточностью улик. 6 ноября 1948 г. года арестован вновь. Осужден по статье 58-10 ч.1 («дискредитация мероприятий партии, правительства»). Приговор — 7 лет лишения свободы, поражение прав на 3 года, заменен Верховным судом ТАССР на 10 лет лишения свободы, поражение прав на 3 года. Умер в заключении 20 апреля 1951 года.
Вернемся к деду моего приятеля, к Виноградову Николаю Ивановичу. Его задержали 21 июня 1938 года. Уже через три дня предъявили Постановление о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, в котором фактически содержалось обвинение (далее преамбулу опускаю):
«Принимая во внимание, что Виноградов Николай Иванович ДОСТАТОЧНО ИЗОБЛИЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ АНТИСОВЕТСКОЙ ЭСЕРОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, СТАВИВШЕЙ СВОЕЙ ЦЕЛЬЮ СВЕРЖЕНИЕ сОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ И ВКП(б), И ВНЕДРЯЛ ЭСЕРОВСКИЕ ИДЕИ, Т.Е. СОВЕРШАЛ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАТЬЯМИ 58 п.2, 58 п.7, 19-58 п.11 УК РСФСР постановляю: «Виноградова Н.И. привлечь по данному делу в качестве обвиняемого, предъявив ему обвинение по статьям… Мерой пресечения способов устранения от следствия и суда избрать содержание под стражей в Чистопольской тюрьме.
Подпись — оперуполномоченный УГБ Чистопольского ГО НКВД ТАССР сержант гос. безопасности Журавлев.
Согласен — начальник Чистопольской следственной группы НКВД ТАССР ст. лейтенант гос. безопасности Немудров.
Утвердил — Нарком Внутренних Дел ТАССР капитан гос. безопасности Михайлов.
На постановлении есть еще резолюция Прокурора ТАССР: «Арестовать». Фото постановления прилагаю.
Вскоре начались допросы. На допросах требовали признаться в участии в тайной эсеровской организации. Не били, нет. Просто днем спать не разрешалось, а несколько ночей подряд водили на допросы. Сопровождали два конвоира, у обоих винтовки с примкнутыми штыками. Допросы проводились на Екатерининской в доме Логутова, тогда там находился Следственный отдел Чистопольского отдела НКВД ТАССР. Дом сохранился, его адрес К.Маркса 48. Николай Иванович рассказывал, что два раза его вели сначала в район рощи на Мельничной площади, где в «корьянке» проводились расстрелы. Такой устрашающий прием от психологов НКВД. Иногда по несколько суток не давали воды. Совсем. Зато выдавалась соленая рыба. В эти дни на столе допрашивающего стоял полный графин воды. Пить захотел? Да, пожалуйста. Только сначала подпиши вот эту бумагу.
Вот выдержка из протокола допроса. Обратите внимание на канцеляризмы и обилие общих слов в ведении протокола.
Протокол допроса обвиняемого Виноградова Н.И. от 28 июля 1938 года.
ВОПРОС. Следование располагает неопровержимыми данными о вашей принадлежности к антисоветской эсеровской организации. Подтверждаете вы это?
ОТВЕТ. Участником антисоветской эсеровской организации я не являюсь и никогда не был.
ВОПРОС. Вы говорите неправду…Вы будете изобличены показаниями ваших участников антисоветской эсеровской организации. … Вам дается очная ставка с участником антисоветской эсеровской организации Мотковым Алексеем Тимофеевичем.
ВОПРОС МОТКОВУ. Подтверждаете ли вы свои показания о принадлежности к антисоветской эсеровской организации Виноградова Н.И.?
ОТВЕТ МОТКОВА. Да, я свои показания подтверждаю и заявляю, что Виноградов Н.И. является участником антисоветской эсеровской организации. Виноградова Н.И. я знаю с 1936 года, как активно проводящего антисоветскую агитацию.
ВОПРОС ВИНОГРАДОВУ. Намерены ли вы впредь скрывать от следствия свою принадлежность к антисоветской эсеровской организации?
ОТВЕТ. Будучи уличен показаниями участника антисоветской эсеровской организации Моткова А. Т., я решил дать следствию вполне откровенные и правдивые показания. Я действительно являюсь членом антисоветской эсеровской организации и активно участвовал в проведении антисоветской работы. Мои настроения против Советской власти окончательно оформились в 1934 году в результате близкого знакомства с кадровым эсером Ташевским Константином Петровичем… При каждой встрече мы вели беседы на антисоветские темы.
ВОПРОС. Какие цели ставила перед собой антисоветская эсеровская организация?
ОТВЕТ. Наша антисоветская эсеровская организация основной целью считала свержение Советской власти, реставрацию капитализма в СССР и установление управления страной эсеровским правительством. В осуществлении этой цели мы, участники антисоветской эсеровской организации
а) повседневно проводили среди населения антисоветскую агитацию. направленную на дискредитацию мероприятий Партии большевиков и Советской власти;
б) осуществляли подрывную и вредительскую деятельность в деле народного образования;
в) изучали людей, проявляющих недовольство Советской властью и привлекали их в свою организацию, тем самым расширяли свое влияние на массы;
г) пропагандировали среди населения эсеровские идеи и дискредитировали ВКП(б);
ВОПРОС. Дайте показания о вашей практической антисоветской и вредительской деятельности в организации.
ОТВЕТ. В осуществлении вышеперечисленных мною задач организации, я, конкретно в 1936 — 1937 года, будучи учителем, проводил вредительскую работу в деле народного образования. Например:
а) слишком занижал оценки по русскому языку;
б) помещал материалы одного года в материалы другого года, что создавало неувязку в педагогической работе;
в) не принимал мер по воспитанию учеников…;
г) преподавая математику в 7-м классе не прошел отдел «Пропорциональные отрезки» в силу чего ученики вышли из школы, не пройдя программный материал;
д) в 5-м классе по арифметике я также вредительски не дал полностью материал, в результате его необходимо было дорабатывать в 6-м классе, что является перегрузкой, а отсюда низкая успеваемость;
е) я, как завуч учебной школы в селе Русские Сарсасы мог бы обеспечить школу учебниками и наглядными пособиями, но сознательно этого не сделал, в результате к началу 1937-1938 учебного года в школе имелся большой процент второгодничества.
Наряду с моей вредительской деятельностью в деле народного образования, я среди населения Малого Толкиша и Русских Сарсас проводил антисоветскую агитацию. В 1937 году Серебрякову Михаилу из села Русский Сарсас я говорил: «Налоги для крестьянства непосильны, с их уплатой можно не торопиться».
Антисоветскую агитацию среди населения я проводил при всех удобных случаях, но конкретные факты вспомнить трудно, потому что она носила систематический характер.
Протокол с моих слов записан правильно и мною прочитан. Виноградов Н.И.
Допросил оперуполномоченный УГБ Чистопольского РО НКВД ТАССР мл. лейтенант гос. безопасности Журавлев. 28 июля 1938 года.
22 августа 1938 года, первый секретарь ЦК компартии Грузии и член ЦК ВКП(б) Лаврентий Павлович Берия был назначен первым заместителем наркома внутренних дел Ежова, а 4 декабря 1938-го всесильный нарком Андрей Мартемьянович Ежов, руководивший Большим террором, был арестован. Отстранение Ежова и его последующий арест, начавшиеся процессы против его соратников и отдельных следователей-изуверов были призваны перенести ответственность за репрессии с политического руководства страной, утверждавшего лимиты на расстрелы и аресты, лично на Ежова и «врагов, пробравшихся в НКВД». Из лагерей тогда вышли некоторые видные военачальники и деятели науки. Возвратились в армию и доказали верность родине на полях сражений будущий маршал Константин Рокоссовский, генерал-полковники Александр Горбатов и Василий Юшкевич. В шарашки, где заключенные конструкторы и инженеры работали в относительно сносных условиях, из лагерей и тюрем перевели авиаконструкторов Андрея Туполева и Владимира Петлякова, будущего отца космонавтики Сергея Королева. Множество «врагов народа» чья вина была недостаточно доказана следствием были освобождены из заключения.
Вот на этой волне был освобожден и Николай Иванович Виноградов. Вместе с ним получили свободу и некоторые его соратники, члены чистопольской ячейки тайной эсеровской организации Урюпов Сергей Дмитриевич, Прохоров Семен Михайлович, Данилов Яков Ильич. Дела по отношению к ним были прекращены за недостаточностью улик.
Николай Иванович рассказывал, что объявили ему об освобождении ночью. Выдали справку и выставили за ворота тюрьмы. Одного. «Я ничего не понял, — рассказывал Николай Иванович,- боялся, что это провокация, что сейчас пойду, а мне в спину выстрелят. Так всю ночь и просидел возле ворот тюрьмы. Только утром пошел домой».
После освобождения, Николай Иванович был восстановлен на работе, ему даже выплатили зарплату за время, проведенное под следствием. С 1942 по 1943 год воевал. Затем снова учительствовал, руководил вечерней школой рабочей молодежи, вышел на пенсию. Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и «За победу над Германией». Реабилитирован, как и все участники чистопольской ячейки тайного эсеровского общества в 1990 году.
Возможно, не следовало так подробно описывать мытарства подследственного Виноградова, я бы этого, скорее всего, и не сделал, будь у нас в Чистополе Музей политических репрессий. Музей, который планировали создать в составе Чистопольского музея-заповедника. Но, в итоге, Чистопольский музей-заповедник есть, а Музея политических репрессий — нет, и, похоже, долго еще не будет. История, как известно, повторяется дважды — первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса, вот только фарс мы где-то, кажется, пропустили.
И еще. В книге Алексея Степанова «Расстрел по лимиту» есть Акт от 15 ноября 1937 года.
«Мы, нижеподписавшиеся, начальник Чистопольской опергруппы ст. лейтенант госбезопасности Помялов, пом. нач. опергруппы лейтенант госбезопасности Булынденко, начальник Чистопольского РО НКВД ТАССР лейтенант госбезопасности Власов составили настоящий акт в том что:
26 августа, 21 сентября и 26 сентября 1937 года на оперативные мероприятия при проведении в исполнении приговоров «Тройки» при НКВД ТАССР в отношении осужденных к расстрелу — израсходовано патрон к револьверу «наган» восемьдесят четыре штуки (84 шт.)
Постановили:
Восемьдесят четыре штуки (84 шт.) патрон к револьверу «наган» списать в расход».
далее идут подписи.
За эти три дня в Чистополе было расстреляно 38 человек.
И еще один «черный» рекорд, как тут не вспомнить о проклятии старой цыганки. Самое большое количество человек, расстрелянных в ТАССР в один день, зафиксировано в нашем Чистополе. Накануне 20-й годовщины революции, 4 ноября 1937 года, в Чистополе было расстреляно 88 человек:
От сумы, да от тюрьмы… (часть 7)
#нашчистополь #экскурсиипочистополю #чистопольскаятюрьма
Не следует считать себя неуязвимым, надежно защищённым от какого-либо несчастья…
Сегодня рассказ о двух «жильцах» Чистопольской тюрьмы в те годы, когда она была специальной психиатрической больницей тюремного типа. Первая — фигура, скорее, комическая, хотя какой уж тут смех, в психбольнице-то, а вторая — зловещая, наводящая страх и ужас одним своим упоминанием.
Итак, Порфирий Корнеевич Иванов. Его называли целителем, йогом, мошенником, Учителем, основателем секты, пророком, сумасшедшим, самородком. Его методика оздоровления «Детка» стала одним из самых популярных учений конца ХХ в. и до сих пор находит приверженцев. В 1980-х гг. у человека, который зимой и летом ходил босой и без одежды, были тысячи последователей. У меня самого были знакомые, живущие в Лобне. Их дети ходили в детский сад, в котором закаливание проходило по методу Иванова — обливание холодной водой, причем как летом, так и зимой.
Это он около года был узником Чистопольской специальной психиатрической больницы тюремного типа, именно таков был статус Чистопольской тюрьмы вскоре после войны и сохранялся он до 1953 года. Родился в 1898 году. Образование — 4 класса церковно-приходской школы. К 35 годам переменил множество профессий, жил как большинство окружающих его людей маленького провинциального города: пил, курил, любил азартные игры, всегда готов был подраться. В 1928 году, уже будучи женатым и имея двух детей, был осуждён на два года по статье 169 (мошенничество, за неуплату патентного налога). Отбывал наказание на лесоповале в Архангельской области и за ударный труд был освобождён досрочно через 11 месяцев.
25 апреля 1933 года — день его просветления, день рождения Идеи. Он приходит к выводу, что весь порядок жизни современного человека в принципе неверен. Стремясь только к «хорошему» — к теплу, сытости. комфорту, человек получает «плохое» — болезни, смерть. В погоне за тепличными, комфортными условиями человек ушёл от природы, изолировался от неё. Снаружи его окружают одежда и дом, изнутри — пища. Иванов решается восстановить потерянный контакт с природой. На этом пути он видит бессмертие. Пища, одежда, жилище делают людей зависимыми, поэтому им нужно освободиться от этих пут и жить в единении с естественными условиями – землей, водой и воздухом. Порфирий Иванов начал закаляться, уменьшил количество пиши и одежды на теле и спустя два года уже ходил в одних длинных трусах и босиком в любое время года. Чувствуя небывалый прилив бодрости и здоровья, Иванов приходит к простой мысли, что раз передаются болезни от человека к человеку, то может передаваться и здоровье. Он начал пропагандировать свое учение и призывать людей следовать его примеру. В 1935 г. его задержала милиция на центральном базаре Ростова. Иванова отправили в психиатрическую больницу, где ему поставили диагноз «шизофрения».
В ноябре 1936 года Иванов повёз личное письмо с политическими предложениями в Москву на VIII Съезд Советов, на котором планировалось принять новую Конституцию СССР. По его мнению в проекте новой Конституции не были учтены права заключённых и умалишённых. Без документов, босой, в длинных «семейных» трусах он был задержан на Красной площади и доставлен сначала в НКВД, где интерес к нему проявил сам нарком Ежов, а затем в следственный изолятор «Матросская тишина». Диагноз «шизофрения» спас ему, вероятно, жизнь, 36-й год, все-таки. Его приодели и доставили в родной Красный Сулим. Зимой 1937 года Иванов был арестован сотрудниками НКВД города Моздок как диверсант. Не поверив, что он Учитель новой школы жизни, Порфирия Иванова подвергли проверке — при 17 градусах мороза длительное время обливали водой из колодца. Через 3 месяца был отпущен. Во время войны оказался в зоне оккупации, и теперь уже немцы, услышав о русском чуде, ставили на нем эксперименты по выживанию на морозе. Сохранился документ за подписью генерала Паулюса. что Иванов «представляет интерес для мировой науки».
В декабре 1943 года, когда итог войны был фактически предрешён, Иванов поехал к Сталину с предложением заключить мир с Германией. Однако голого человека зимой на вокзале, утверждающего, что он прибыл с политическими требованиями, милиция доставила в Институт служебной психиатрии им. Сербского.
Поздней осенью 1948 года, в год своего 50-летия и 15-летия своего учения, Иванов осуществил экстремальный эксперимент — поход от Туапсе до Сочи вдоль берега Чёрного моря. В своих записях и рассказах Иванов утверждал, что начинался проход во время 12-бального шторма на море, и 12 суток он находился в естественных условиях природы без пищи, одежды и жилого дома.
В 1951 г. Порфирия Иванова арестовали за «антисоветскую агитацию» и отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу тюремного типа, где он провел 3 года, сначала в спецтюрьме в Ленинграде, потом в Казани, и год в нашем Чистополе.
Осенью 1975 года Иванов собрался ехать на XXV съезд КПСС с новым обращением к делегатам съезда. Не доехал, его ссадили с поезда, идущего в Москву, и отправили в Новошахтинскую психбольницу. В общей сложности, начиная с 1933 года, Иванов провёл в изоляции 12 лет — спецбольницы М, тюрьмы, психбольницы, домашний арест.
В 1983 году в журнале «Огонек» вышла большая статься о Порфирии Иванове и его учении. Резонанс был не просто огромный — ошеломляющий. Редакция была завалена письмами. В ответ появилась знаменитая «Детка» — 12 заповедей правильной жизни. Вот некоторые из них. Нельзя сказать, что антисоциальные и вредящие здоровью:
— Два раза в день купайся в холодной природной воде, чтобы тебе было хорошо. Купайся в чем можешь: в озере, речке, ванной, принимай душ или обливайся.
— Не употребляй алкоголя и не кури.
— Старайся хоть раз в неделю полностью обходиться без пищи и воды с пятницы 18–20 часов до воскресенья 12 часов.
— Люби окружающую тебя природу.
— Помогай людям чем можешь, особенно бедному, больному, обиженному, нуждающемуся.
— Мысль не отделяй от дела. Прочитал – хорошо, но самое главное – делай!
О Порфирии Иванове сняты фильмы — «Живая жизнь», «Порфирий Иванов. 12 заповедей», «Бог моржей. Порфирий Иванов» и «Холод. В поисках бессмертия».
Теорию, вернее, философию Иванова называют и «неоязыческий культом и антисоциальной утопией», и «религиозным культом совершенствования человеческого организма», и «движением духовно-нравственного и физического совершенства», а самого создателя системы оздоровления человека «Детка»» — «оригинальным русского мыслителем и практиком».
И сегодня ивАновцев можно увидеть почти в каждом городе. Это они по утрам выходят из подъезда с ведром холодной воды, встают на снег, или травку, в зависимости от времени года, и — бр-р, опрокидывают себе на голову (это обязательно) этот ушат.
Еще одним узником Чистопольской специальной психиатрической больницы с тюремным режимом был Павел Судоплатов, личность несомненно легендарная. Фактически, его спрятали в Чистопольской тюрьме, присвоив ему условный номер, поскольку высшие руководители страны жаждали расправы с человеком, который слишком много знал, и слишком много умел.
Павел Анатольевич Судоплатов — советский разведчик, диверсант, руководящий работник спецслужб, перед арестом в 1953 году генерал-лейтенант МВД СССР.
Наиболее известная операция им разработанная и осуществленная под его руководством — операция «Утка» — убийство в 1940-м году в Мексике бывшего председателя Петроградского Совета Рабочих и Солдатских депутатов, бывшего Наркома по Военно-морским делам, бывшего организатора IV Интернационала, фактического руководителя Петроградского вооруженного восстания 25 октября 1917 года, (а вы думали, что революцию сделал Владимир Ильич?), личного врага И.В. Сталина — Льва Давыдовича Троцкого. Павел Судоплатов не только планировал и организовывал, но лично участвовал в уничтожении политических противников. Именно он весной 1938 года передал в ресторане гостиницы «Атланта» города Роттердама коробку конфет соучредителю и организатору «Организации Украинских Националистов» Евгению Коновальцу. Коновалец погиб в результате взрыва бомбы, находящейся в этой коробке.
Руководитель Иностранного отдела НКВД СССР. Преподаватель школы особого назначения НКВД СССР. Во время Великой Отечественной войны участвовал в организации минирования стратегических объектов в период обороны Москвы. Руководил Особой группой по проведению разведывательно-диверсионной работы на территории, временно оккупированной немецко-фашистскими войсками. Целью Особой группы были разведка, диверсии, террор на территории, занятой противником. Провел несколько успешных стратегических радиоигр с абвером. Вернул в секретную службу многих репрессированных разведчиков.
Судоплатов непосредственно руководил деятельностью находившегося на оккупированной немецкими войсками Западной Украине партизанского отряда специального назначения Дмитрия Медведева, являвшегося базой для легендарного разведчика Николая Кузнецова, лично уничтожившего 11 генералов вермахта. Совместно с другим высокопоставленным сотрудником НКВД Виктором Ильиным разработал план покушения на Гитлера, увы, неосуществленный. Возглавлял отдел, который занимался агентурным добыванием и обобщением материалов по разработке ядерного оружия в США.
После войны начальник отдела «ДР» — диверсионная работа против военных баз США, а затем и других стран НАТО в Европе.
21 августа 1953 года, после ареста Лаврентия Берии, генерал-лейтенант Судоплатов был арестован в собственном кабинете на Лубянке как «пособник Берии». Во время следствия симулировал помешательство, что спасло ему жизнь. Несколько месяцев провел в Чистопольской тюрьме, которая тогда являлась психиатрической больницей тюремного типа. Суд на Судоплатовым состоялся только в 1958 году. Приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР по «контрреволюционной» статье 58-1 пункт «б» к 15 годам заключения за активное пособничество изменнику Родины Берии в подготовке государственного переворота, производство опытов над людьми, похищения и многочисленные убийства. Виновным себя не признал.
Освобождён по отбытии срока наказания 21 августа 1968 года. Реабилитирован постановлением Главной военной прокуратуры Российской Федерации от 10 января 1992 года. Опубликовал книгу воспоминаний о своей жизни и работе — «Разведка и Кремль. Записки нежелательного свидетеля». Есть в инете. Прочтите, увлекательное чтиво.
Ну, и поскольку мы заговорили о разведчиках и контрразведчиках, самое время вспомнить о том, что в Чистопольской тюрьме в разное время содержались шпионы, разведчики, работавшие против своей страны.
Одним из таких фигур был Борис Южин.
Южин Борис Николаевич, подполковник, сотрудник Первого Главного Управления КГБ СССР, ответственного за внешнюю разведку. Окончил Краснознаменный институт КГБ СССР. После специальной подготовки в 1975 отправлен на стажировку в Калифорнийский университет, в Беркли под видом студента-стажера по полупроводникам, где на следующий год был завербован ФБР.
Как это было. Оцените профессионализм и качество подготовки вербовщиков. Были изучены связи Южина, привычки и пристрастия, достоинства и недостатки, в результате полученных данных был создан его психологический портрет. На первом этапе к заезжему русскому подвели опытную агентессу ФБР Джуди Стивенсон. Бывая в гостях у Южина, мисс Стивенсон просила преподнести ей в качестве сувенира какой-нибудь милый пустячок — оригинальную бутылку из-под армянского коньяка, пустую конфетную коробку советского производства или еще что-нибудь в этом роде. Однажды Джуди пригласила своего русского друга посетить латиноамериканский клуб, потанцевать и познакомиться с интересными людьми. В клубе была проведена фотосъемка. Затем Джуди познакомила Бориса со своим братом — Лэри Уотсоном, в действительности кадровым офицером ФБР.
В один прекрасный день мисс Стивенсон явилась к Южину на квартиру вся в слезах и рассказала, что к ней домой наведались люди из ФБР, произвели обыск, перевернув все верх дном, изъяли сувениры, подаренные ей Борисом, и унесли с собой фотографии, сделанные в латиноамериканском клубе, и теперь ее обвиняют в причастности к террористической деятельности и в пособничестве в установлении контактов между русскими и террористами. В подтверждение своих слов она показала Борису заметку, опубликованную в одной бульварной газете. Обеспокоенный произошедшим, Южин отправился в свое консульство, где доложил офицеру безопасности о случившемся. Тот успокоил его и посоветовал не паниковать, так как, дескать, от провокаций в этой стране никто не застрахован.
На следующий день к Южину примчался Лэри Уотсон. «брат», и объявил, что его «сестру» госпитализировали и сейчас она находится в критическом состоянии. Мисс Стивенсон, действительно лежала в больнице. Она упросила Бориса съездить в ФБР и объяснить там, что она ни в чем не виновна. Одна беседа со следователем, вторая, третья. Позже во время следствия в Москве Борис Южин так объяснял факт своей вербовки: ««Неожиданно один из присутствующих перешел на русский язык. Говорил он блестяще. А знание моей точной принадлежности к разведке сломило мою способность к сопротивлению»…
Справедливости ради надо отметить, что Борис Южин был «бескорыстным» шпионом. Эрудированный молодой человек, знакомый с «Одним днем Ивана Денисовича», а также с распространяемым с рук «Самиздатом» согласился сотрудничать с ФБР на идеологической основе. Это был такой Юрий Деточкин, только в разведке. Брал только «командировочные», пару сотен наличных долларов.
После возвращения в СССР вскоре был снова направлен в США, уже под видом корреспондента ТАСС, потом в Генеральное консульство СССР в Сан-Франциско. В течении пяти лет Борис Южин добросовестно работал и на КГБ, и на ФБР. Агент «Твайн» сообщал ФБР известные ему сведения о составе резидентур КГБ в Соединенных Штатах, постоянно информировал американскую контрразведку о работе своих коллег, их доверительных контактах из числа жителей Сан-Франциско, наконец, о ставших ему известными оперативных планах внешней политической разведки в отношении США, сдал агента влияния КГБ в Норвегии, известного партийного и профсоюзного лидера А. Трехольта.
Южина было практически невозможно взять с поличным, он категорически отказывался сотрудничать с ФБР во время пребывания в Москве. Участившиеся провалы свидетельствовали о том, что в управлении сидит «крот», но вычислить его не могли.
Сдал Южина в 1985 году наш суперагент Олдрич Эймс — возглавлявший советский отдел управления внешней контрразведки ЦРУ. (Отбывает пожизненное заключение без права помилования). Эймс прислал список двойных агентов КГБ, среди которых стояло имя — Борис Южин. Через некоторое время эту информацию подтвердил и другой наш суперагент — Роберт Филип Ханссен, руководитель группы наблюдения за советскими агентами, в последующем, руководитель аналитической группы ФБР по вопросам Советского Союза. (Отбывает пожизненное заключение без права помилования).
В октябре 86-го, в первом же анонимном письме Ханссена на имя резидента КГБ в Вашингтоне было следующее. «Вашу службу в последнее время постигла серия неудач. Предупреждаю вас, что мистер Борис Южин (линия PR, Сан-Франциско), мистер Сергей Моторин (линия PR, Вашингтон) и мистер Валерий Мартынов (линия X, Вашингтон) были рекрутированы нашими специальными службами… Мое имя и положение, которое я занимаю в разведывательном сообществе США, должны остаться неназванными для обеспечения моей безопасности».
Южин был арестован группой захвата подразделения «Альфа» и осуждён по статье 64 пункт «а» УК РСФСР за Государственную измену к лишению свободы на 15 лет. Часть срока отбывал в Чистопольской тюрьме особого режима. Освобождён в феврале 1992 года Борисом Николаевичем Ельциным, подписавшим Указ о помиловании нескольких разоблаченных двойных агентов, в том числе и Бориса Южина. В 1994 вместе с семьёй выехал в США.
Чистопольская тюрьма. 50-е годы: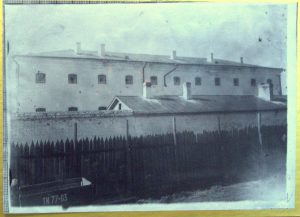
Генерал-лейтенант Павел Судоплатов:
Борис Южин. У настоящего разведчика даже приличной фотографии не может быть:
От сумы, да от тюрьмы… (часть 8)
#нашчистополь #экскурсиипочистополю #чистопольскаятюрьма #музейполитическихрепрессий
Не следует считать себя неуязвимым, надежно защищённым от какого-либо несчастья…
Отдельную группу «сидельцев» Чистопольской тюрьмы составляли «зеки», отбывавшие в ней срок по политическим, или, как их иногда называли, по КГБшным статьям. К лету 1980, к проведению в Москве главного спортивного праздника — Олимпиады, их, «отщепенцев», «предателей Родины», «клеветников России» свезли в провинциальную глухомань, подальше от вездесущих корреспондентов и гостей Олимпиады. В город, который весенне-осенней распутицей бывал отрезан от Большой земли, и до которого зимой надо было добираться через ледовую переправу, и то, если повезет, и если не будет метели, то есть примерно так, как это происходило в XIX веке. В Чистополе «политическим» были отведены камеры в крыле старого здания тюремного острога, усиленные средствами спецохраны — одиночки, двойки и четверки. В рабочую зону диссидентов не выводили, они практически не общались с другими осуждёнными. Работали прямо в камерах, занимаясь, в основном, сборкой втулки крепления ремешка для наручных часов или плетением сеток для овощей и авосек. Содержание было жесткое, зачастую жестокое. Да, не били, да, обращались на «вы». Но лишение посылок, передач, свиданий, писем — было делом обычным. Каждая из сторон требовала соблюдения Закона. Отсюда и карцер, и голодовки, и, как следствие, унизительное кормление через зонд — фактически пытка. В старом корпусе Чистопольского замка, где сидели «политические», межкамерные стены толстые, и переговаривались через трубы отопления смежных камер. Надо было плотно приставить металлическую кружку донышком к трубе, а говорить, или слушать через открытый «рупор» кружки. По некоторым оценкам через чистопольский каземат прошло более 60-ти политических сидельцев. Каждому присваивался личный номер, по которому и шел их учет и велись записи в журналах наблюдения. Это о них, прорываясь сквозь треск глушилок, рассказывали «Голос Америки», «Радио Свобода» и «Немецкая волна». В те годы слова ЧистОполь и политическая тюрьма стали синонимами и звучали в эфире каждый день. Когда в 2014 году принималось решение о создании в Чистополе Музея-заповедника, в его составе планировалось организовать и Музей политических репрессий, для него даже выделили здание — особняк Григория Дмитриевича Полякова — одно из старейших зданий нашего Чистополя, построенное по проекту известного казанского архитекторы Фомы Ивановича Петонди (К. Маркса 1). Здание, переданное Музею-заповеднику, пустует до сих пор, говорят, не время сегодня вспоминать борцов за права граждан — свободу слова, свободу собраний, борцов за соблюдение Основного закона страны — Конституции.
Вероятно, самый известный персонаж среди политических «сидельцев» — Анатолий Марченко. Известен он, наверное, благодаря своей трагической смерти, произошедшей 8 декабря 1986 года в больнице часового завода (сегодня городская больница №2, Энгельса 105) при выходе из очередной голодовки. У Анатолия Марченко остановилось сердце, реанимационные процедуры не помогли, и была зафиксирована смерь одного из самых известных правозащитников. Наручники сняли с Марченко только после его смерти. Он так и умер — без сознания, но в наручниках. Марченко было 48 лет. Шестой срок. Последняя голодовка — 117 дней. Требование — выпустить всех политических заключенных. Через две недели после смерти Марченко Горбачев позвонил в Горький Андрею Дмитриевичу Сахарову и сообщил о его освобождении, а вскоре амнистировали всех политзаключенных. Люди, знающие Анатолия Марченко, говорят, что он был очень жестким человеком, максималистом по натуре, непростым собеседником. Не шел на компромиссы с властью. У Анатолия Тихоновича был плохой слух, и он давно уже пользовался слуховым аппаратом. Будучи вызванным на допрос, Марченко сразу снимал слуховой аппарат, говоря тем самым, что ему не о чем сказать следователю. Если требовал, то шел до конца, либо до победы, либо до нового срока, а в последний раз — до смерти. Немногие знают, что была предпринята попытка похоронить Марченко, не дожидаясь приезда его жены — тоже правозащитницы Ларисы Иосифовны Богораз. (Она была в числе семи советских граждан, вышедших 25 августа 1968 года на Красную площадь, протестуя против ввода войск Варшавского Договора в Чехословакию на подавление «чешской весны»). Но воспротивился батюшка Сильвестр, настоятель Никольского собора, к которому сотрудники тюрьмы обратились с просьбой отпеть покойного. И еще было намерение Ларисы Иосифовны вывезти тело мужа в Москву, где похороны Марченко, превратились бы в манифестацию. После телефонных переговоров с Сергеем Ковалевым, Лариса Иосифовна решила не будоражить московскую общественность и Анатолий Марченко был похоронен по православному обряду в ЧистОполе. В 1997 году его могиле был даже присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. Правда, в последней редакции этого перечня я такого ОКН уже не нашел, исключили. Анатолий Марченко — автор книг: “Мои показания”, “От Тарусы до Чуны” и “Живи как все”. Уже первая книга Марченко “Мои показания” (1967 год)— о жестокости, беззакониях и голоде в послесталинском ГУЛАГе потрясла читателей Самиздата. После пересылки за рубеж книга была переведена на многие европейские языки и стала первым развёрнутым мемуарным свидетельством о жизни советских политзаключённых после смерти Сталина. Цитата из книги: «Мир должен знать: сталинские лагеря не кончились. Сейчас сажают много меньше, но законы лагерной жизни не менее жестоки и не более правосудны». После выхода этой книги Марченко приобрел уже международную известность. Член Московской хельсинской группы — старейшего правозащитного объединения в СССР. Подписант обращения в Президиум Верховного Совета СССР с призывом к всеобщей политической амнистии в СССР.
Еще один политзек навсегда остался в ЧистОполе. Это Марк Аронович Морозов. Судьба его была трагична. Марк был, вероятно, единственным из политзеков, кто сотрудничал с властями.
Марк Морозов с детства страдал туберкулезом позвоночника. В результате Марк был лишён радостей от игр и общения со сверстниками. Зато его стихией были книги. Марк читал необыкновенно много и, обладая феноменальной памятью, построил для себя целый мир, мир гармонии и порядка. Учился в Московском автомеханическом институте на автотракторном факультете — ему, блестящему математику не нашлось места в более престижных вузах, подвела пятая графа паспорта. Очень общительный, необыкновенно начитанный и эрудированный в разных областях, горячий полемист, остроумный и острый на язык, он часто становился центром спонтанных сборищ и дебатов, которые возникали на переменах или после занятий. Но только вот Марк не ограничивал свои упражнения в остроумии студенческим кругом и переносил их и на некоторых преподавателей — нередко в ущерб себе самому. Так преподавателю по тракторам Марк на полном серьезе предложил идею шагающего трактора. Однажды Марк потерял студенческий билет и декан факультета попросил его написать объяснительную. А фамилия декана была Ленин. В результате товарищ Ленин получил развернутое эссе, которое я воспроизведу здесь в пересказе сокурсника Марка. В нём он описывал, как «в один погожий день отправился на прогулку. Во дворе их дома мальчишки играли в футбол. Тут Марк отметил, что несмотря на грандиозную заботу, которую наши партия и правительство постоянно проявляют о детях, далеко не всё ещё сделано в этой области. Так, не хватает еще детских и спортивных площадок, мест для игр и развлечений детей. Вот и у них во дворе дети вынуждены были гонять мяч по асфальту, превратив кусок проезжей части в футбольное поле. Нечего и говорить, что футбольных ворот, без которых игра немыслима, там не было. По обычаям того времени мальчишки решили соорудить штанги воображаемых ворот из предметов одежды. Но и этого у них не было. Тогда они обратились к Марку с просьбой одолжить им свой пиджак. Ну разве мог он отказать детям? И вот его пиджак стал одной из штанг, а сам он пока что наблюдал за игрой. Но, к несчастью, кто-то украл его пиджак — увы, и такое у нас ещё случается порой, и именно в этом пиджаке находился его студенческий билет, с которым Марк, как образцовый советский студент, никогда не расстаётся. Посему он просит незамедлительно выдать ему новый».
Месть была изощренной — Марк Морозов закончил институт, но в выдаче диплома ему было отказано. И, тем не менее, Марк защитил кандидатскую диссертацию, стал кандидатом физико-математических наук. Работал главным специалистом отдела технической и экономической информации Государственного проектного и научно–исследовательского института по проектированию учреждений здравоохранения.
Один из создателей Свободного межпрофессионального объединения трудящихся (СМОТа) — первого (и последнего) независимого союза трудящихся. На квартире Марка Морозова состоялась первая пресс-конференция СМОТ.
К борцу за права трудящихся в качестве куратора и воспитателя был прикреплен сотрудник 5-го управления КГБ (идеологическая контрразведка) капитан Орехов. Через какое-то время Виктор Орехов предложил свою помощь в предупреждении о предстоящих задержаниях и обысках. Случай немыслимый! Принимать эту помощь, или это очередная провокация? И Марк на встрече со своими единомышленниками рассказал о предложении капитана КГБ. Над ним посмеялись: « Комитет переиграть невозможно, он тебя все равно на чем-то поймает!» Но Марк решил, что пользы от сотрудничества будет больше. Через некоторое время Марк начал передавать информацию о предстоящих акциях КГБ, полученную от своего куратора — офицера госбезопасности Виктора Алексеевича Орехова. Два года «Клеточников» — такой псевдоним дали правозащитники капитану КГБ, предупреждал о предстоящих арестах и обысках. Капитан Орехов был арестован 30 октября 1978 года и, после проведенного следствия, получил двенадцать лет ИТЛ. Марк Аронович Морозов был арестован через два дня. Ему инкриминировали распространение листовок в защиту Юрия Орлова и Александра Гинзбурга. На допросах Марк Морозов сломался. Он дал показания на всех знакомых, хоть как-то причастных к демократическому движению, в том числе и на своего куратора, капитана КГБ Виктора Орехова. Приговорен по ст.70 ч.1 УК РСФСР к 5 годам ссылки, приговор по политической статье необычайно мягкий, учтено его согласие на сотрудничество. Да и ссылку Марк отбывал в Коми АССР, работая инженером управления комбината «Печорашахтстрой» в Воркуте.
А вот дальше все пошло по полной. Повторно арестован в ссылке в марте 1980 года за распространении самиздата и “антисоветские” высказывания. Марк записал на магнитофон читаемый по «вражескому» радио «Архипелаг ГУЛАГ», а потом отдал запись знакомой машинистке на перепечатку. Она и выступила на суде главным свидетелем. В обвинительном заключении утверждалось, что, отбывая ссылку, Морозов «идейно не разоружился». Ну, да, все правильно. Ведь Морозов распространял Солженицина, (кто не читал, поднимите руку), плюс статья Марка «СССР — политика обмана», плюс письмо в Комиссию ООН по правам человека, все это потянуло на 8 лет и 8 месяцев лишения свободы и 5 лет последующей ссылки. Для его состояния — это был фактически смертный приговор с отсрочкой исполнения на неопределенный срок. На следствии, которое продолжалось 10 месяцев, Морозова в тяжелейшем состоянии возили на психиатрическую экспертизу. которая признала его вменяемым. В пересыльной тюрьме он был зверски избит. Не в силах сопротивляться системе Морозов вскрыл себе вены. Его откачали и довели дело до суда. В декабре 1983 года Марк Морозов был переведен на 3 года в ЧистОпольскую тюрьму за «отказ от работы», а также «нарушение режима содержания», «оскорбление администрации» и попытки нелегальной отправки писем. К тому времени это уже был инвалид — инфекционный ревматический полиартрит, болезни сердца и легких, туберкулез позвоночника, облитерирующий эндартериит довели Морозова до II группы инвалидности. Марк Аронович Морозов умер 3 августа 1986 года, по сообщению администрации тюрьмы — от острого сердечного приступа, по данным «Открытого списка» — покончил с собой. Это подтвердил и его сокамерник — Валерий Сендеров. После освобождения Валерий Сендеров описал свое нахождение в ЧистОпольской тюрьме в парижской эмигрантской газете «Русская мысль». Похоронен на ЧистОпольском кладбище.
Валерий Анатольевич Сендеров — математик, диссидент, педагог, публицист, правозащитник, политзаключённый. Родился в самом центре Москвы. Мама — одна из лучших московских адвокатов. Первые проблемы с властью поимел еще школьником — ходил вместе с друзьями читать стихи на площадь Маяковского. Читали не только Пушкина, читали неугодных Мандельштама, Цветаеву. В городском комитете комсомола Валерию пообещали — на мехмат МГУ ты не поступишь. В МГУ, как мечтал, не поступил, поступил в не менее престижный Физтех, Московский физико-технический институт. В 68-м, за месяц до защиты диплома был исключен за распространение самиздатовской литературы. Через два года восстановился, диплом все же получил. Поступил в аспирантуру, но опять был исключен за свою «немарксистскую» работу «Философия Ницше». Обладая уникальными математическими способностями вёл уроки и специальный математический семинар в легендарной Второй математической школе, ставшей к тому времени уникальной теплицей и пристанищем для многих московских диссидентов.
В конце 1970-х годов Сендеров вступил в Народно-трудовой союз российских солидаристов (НТС), политическую организацию русских эмигрантов, стал участвовать в деятельности Международного общества прав человека. Один из немногих, публиковавшим статьи в эмигрантских журналах «Посев» и «Русская мысль» под своим именем. Входил в руководящий совет Свободного Межотраслевого Объединения Трудящихся. Сокамерник Сендерова в нашей ЧистОпольской тюрьме — Михаил Рифкин называл его «рыцарем без страха и упрека»… «И в своих жизненных выборах, и в суждениях, и в манере держаться, и даже в изысканном, чуть замедленном произношении многих слов Валерий был человеком позапрошлого столетия, того удивительного и навсегда ушедшего века, когда нормой человеческого поведения было благородство, а не предательство», — Михаил Рифкин о Сендерове. Друзья называли Валерия Сендерова — «князь Мышкин».
Его арестовали летом 82-го, в ходе массовой волны арестов, призванной по амбициозному заявлению Андропова, «положить конец такому явлению, как диссидентское движение в СССР». Валерий Сендеров не признал легитимность советского следствия и суда, не ответил ни на один вопрос, заявил, что считает себя военнопленным белогвардейцем в руках незаконного большевистского режима. Ему «впаяли» максимальный срок по 70-й, часть 1-я УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда) — семь лет колонии строгого режима и пять лет ссылки. При первом же лагерном обыске конфисковали Библию. В ответ Валерий отказался работать. Лагерное начальство решило сломать его любой ценой и большую часть срока Валерий провел в ШИЗО и ПКТ — помещения камерного типа, фактически. одиночки.
В марте 1985-го за очередное нарушение лагерного режима Сендеров был переведен в ЧистОпольскую «крытку» — тюрьму усиленного режима. В марте 1987 года Валерий Сендеров на «горбачевской волне помилований» был освобождён без каких-либо заявлений и просьб с его стороны.
После освобождения продолжал выступать как публицист, принял активное участие в создании Российского христианско-демократического движения. В 1988 году вместе с Ростиславом Евдокимовым фактически стал руководителем российской организации НТС. Стал одним из инициаторов создания «Народного университета», в котором провалившиеся абитуриенты могли бесплатно получить первоклассное математическое образование. Был членом жюри Московской математической олимпиады, составлял решения трудных задач для журнала «Квант». Прекрасно помню этот журнал, сам его покупал иногда, только не знал тогда, чьи задачи по математике я решал.
Скончался в Москве 12 ноября 2014 года.
Анатолий Марченко с Ларисой Богораз и сыном Павликом: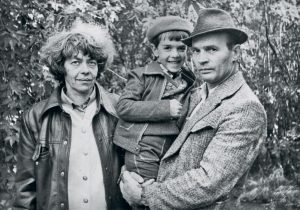
Эмблема «Свободного межпрофессионального объединения трудящихся»: 
От сумы, да от тюрьмы… (часть 9)
#нашчистополь #экскурсиипочистополю #чистопольскаятюрьма #музейполитическихрепрессий
Не следует считать себя неуязвимым, надежно защищённым от какого-либо несчастья…
Рассказывая о политических «сидельцах» Чистопольской тюрьмы, конечно, нельзя пропустить и Анатолия Борисовича Щаранского, которого больше знают по имени Натан.
Анатолий Щаранский родился 20 января 1948 года, в городе Сталино, ныне Донецк, активист еврейского движения в Советском Союзе, участник движения защиты прав человека, израильский общественный и политический деятель. Учился, как и Валерий Сендеров, в Московском физико-техническом институте. Работал в Институте нефти и газа в Москве. В детские и юношеские годы увлекался шахматной игрой, получил звание кандидата в мастера спорта по шахматам. Кстати, и институтский диплом у него был по теории шахматной игры. В свободное от работы время тренировал юных шахматистов.
Его первая невеста выехала в Израиль, а Анатолия Щаранского ОВИР не выпустил, счел еврейские корни Щаранского недостаточными. И Анатолий Щаранский стал одним из активистов движения советских евреев-отказников. Вскоре он был уволен из ВНИИ нефти и газа, пришлось зарабатывать на жизнь частными уроками.
Щаранский становится автором ряда писем и обращений еврейских активистов к советским властям и международной общественности, был одним из инициаторов создания Московской группы по контролю за соблюдением Хельсинкских соглашений в области прав человека, так называемой Хельсинкской группы, становится помощником и переводчиком академика А. Сахарова при его контактах с иностранцами. Встречаясь с аккредитованными в Москве иностранными журналистами, Щаранский передавал им информацию о преследованиях, которым подвергались активисты-правозащитники, о необоснованных отказах в разрешении на выезд из СССР, о многочисленных случаях нарушения прав человека в СССР. Вот это последнее и послужило основным мотивом в аресте. Щаранский на суде обвинялся по статье 64 УК РСФСР («Измена Родине») в шпионаже и «оказании иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР» и по статье 70 УК РСФСР («Антисоветская агитация и пропаганда»). Дело в том, что Щаранский передавал иностранным журналистам списки отказников. С одной стороны этот список содержал фамилии лиц, которым было отказано в выезде в Израиль, с другой — большинству из этих людей, их было более 1000, отказано было по причине имеющегося у них допуска к закрытой информации, а, следовательно, обладания сведений, содержащих государственные и военные секреты. Человек, которому Щаранский передавал эту информацию, с одной стороны был американским журналистом, с другой — действующим агентом американской военной разведки, который использовал эти материалы против интересов СССР, опубликовав статью «Советский Союз раскрывает центры секретных работ».
14 июля 1978 года коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР осудила его к лишению свободы сроком на 13 лет с отбытием первых трёх лет в тюрьме, а последующих — в колонии строгого режима. Так Натан Щаранский оказался в ЧистОполе. Находясь в заключении, он не раз попадал в карцер за протесты против незаконных действий тюремного начальства (примерно половину девятилетнего срока заключения Щаранский провёл в одиночной камере и более 400 дней — в штрафном изоляторе на пониженном рационе питания, при низкой температуре и без необходимой одежды. Выживать в одиночках и в карцере Щаранскому помогали шахматы. «Расхаживая по одиночке или находясь в карцере, я постоянно возвращался к шахматным партиям, перебирал в уме вариант за вариантом», — это из мемуаров. Щаранский неоднократно объявлял голодовки протеста, подвергался принудительному кормлению. Обе стороны — и поднадзорная, и надзирающая, пытались создать друг другу невыносимые условия. Кто в этом преуспел — догадайтесь сами. В мемуарах Натан Щаранский неожиданно назвал ЧистОпольскую тюрьму своей «Альма-матер», «где блок политзаключенных был своеобразной психологической лабораторией, в которой сложные жизненные комбинации сводились в предельно простые формулы — что есть главное в твоей жизни, в чем смысл взаимоотношений с людьми, кто ты есть на самом деле».
Щаранский оставил немало любопытных воспоминаний о содержании в ЧистОпольском остроге. Так, например, он рассказывал о существовавших тогда 18-ти уровнях питания: от 1а до 9б. И 1а — это не ресторан, а 9б — это питание в карцере, когда за целый день получаешь три кружки кипятка и три куска хлеба. Известна история, когда Щаранский обмерял свою камеру спичечным коробком, доказывая ее несоответствие санитарным нормам. Что ж, перевели в другую. Но в другой его сокамерником оказался Марк Морозов, к тому времени уже психически нездоровый человек, изводящий всех бредовыми планами противостояния тюремной администрации. В своих мемуарах Щаранский вспоминает и самый запомнившейся день в ЧистОпольской тюрьме.»Шли 45-е сутки моей голодовки. Меня принудительно кормили, вливали питательную смесь раз в три дня…Я лежал и вдруг услышал похоронный марш. «Боже, я же еще не умер», — мелькнула мысль. Но затем понял, что музыка звучит по радио. Из репродуктора сообщили, что скончался Леонид Ильич Брежнев. «На 45-й день моей голодовки сердце Брежнева не выдержало», — подумал тогда я. В коридорах поднялся страшный шум и лай собак — это кричали зеки, а надзиратели пытались их урезонить. Раньше собак в коридоры не заводили, настолько тюремное начальство боялось в тот день беспорядков.»
История освобождения Натана Щаранского — одна из самых детективных. 11 февраля 1986 года, после многочисленных демонстраций по всему миру и ходатайств крупнейших политиков Европы и США, в результате специального соглашения между СССР и США, Щаранского, вместе с двумя гражданами ФРГ и гражданином Чехословакии в феврале 1986 года обменяли на легендарном мосту Глинике, на границе Западного Берлина и ГДР на арестованных в США чехословацких агентов Карела и Хану Кёхер, советского разведчика Евгения Землякова, польского разведчика Ежи Качмарека и разведчика ГДР Детлефа Шарфенорта, арестованных в ФРГ. Обмен состоялся на том самом мосту, на котором в 1962 году поменяли американского летчика Пауэрса на советского агента Рудольфа Абеля.
В Израиле Щаранский был с почётом встречен премьер-министром Шимоном Пересом. В последующие годы занимал должности министра промышленности и торговли, министра внутренних дел, министра строительства, министра по делам Иерусалима, заместителя премьер-министра. Израиля, конечно. Издал несколько своих книг по политике, в том числе автобиографическую «Не убоюсь зла», переведенную на несколько языков.
Ковалев Сергей Адамович. Еще один «рыцарь без страха и упрека», человек, которым восхищались за его смелость и непреклонность, и которого называли предателем своего народа. Участник правозащитного движения в СССР и постсоветской России. Один из авторов «Российской Декларации прав человека и гражданина» и 2-й главы Конституции Российской Федерации — «Права и свободы человека и гражданина». Председатель Российского историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал», объявленного сегодня вне закона. Первый уполномоченный по правам человека в Российской федерации.
Родился в Сумской области, Украина. Жил и работал в Москве. Опубликовал более 60 научных работ. В 1964 году получил ученую степень кандидата биологических наук. Общественной деятельностью начал заниматься с середины 1950-х годов — принимал участие в борьбе против признанного впоследствии антинаучным «учения Лысенко», выступая в защиту «буржуазной» науки — генетики.
В 1966 году организовал сбор подписей под обращением в Президиум Верховного Совета СССР в защиту писателей-диссидентов Андрея Синявского и Юлия Даниэля, которые были осуждены по ст. 70 УК РСФСР (антисоветская пропаганда) за публикацию своих художественных произведений за границей. В мае 1969 года вошёл в состав «Инициативной группы защиты прав человека в СССР» — первой независимой правозащитной общественной ассоциации в стране. С 1971 года один из ведущих участников издания «Хроники текущих событий» — машинописного информационного бюллетеня советских правозащитников. После высылки из СССР Александра Солженицына и лишении его гражданства, опубликовал заявление членов «Инициативной группы» с требованием издать в СССР «Архипелаг ГУЛАГ» и открыть архивы КГБ. 28 декабря 1974 года Ковалёв был арестован по обвинению в «антисоветской агитации и пропаганде». 12 декабря 1975 года суд приговорил его к 7 годам лишения свободы и 3 годам ссылки. Срок отбывал в колониях строгого режима «Пермь-35», «Пермь-36, «Пермь-37». В декабре 1980 года за неоднократные нарушения режима был этапирован в Чистопольскую тюрьму, где и досидел свой срок. Ссылку отбывал в поселке имени Матросова Магаданской области. Освободившись, поселился в Калинине (Твери), въезд в Москву Ковалеву был запрещен. В декабре 1989 года по рекомендации Андрея Сахарова Ковалёв выдвинул свою кандидатуру и на выборах в марте 1990 года был избран народным депутатом РСФСР от одного из московских округов в первом же туре голосования. В 1993—2003 годах — депутат Государственной Думы. В 1993—1996 годы — председатель Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации. В 1996 году вышел из Комиссии в знак протеста против перехода к силовым методам решения политических проблем. В 1996—2003 годы — член Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
Теперь о том, за что его называли предателем собственного народа. В начале Первой Чеченской войны (многие ли знают, что это была за война, как она началась, и каковы ее последствия?) Ковалёв, находясь в должности уполномоченного по правам человека в РФ, выступал с резкой критикой политики властей России, касающейся войны в Чечне. 31 декабря 1994 года, накануне штурма Грозного, повлекшего большие жертвы среди российских военнослужащих, Сергей Ковалёв в составе группы депутатов Государственной Думы и журналистов вёл переговоры с чеченскими боевиками и парламентариями в президентском дворце в Грозном. Когда начался штурм, и на площади перед дворцом начали гореть российские танки и БТРы, гражданские лица укрылись в подвале президентского дворца, вскоре там стали появляться раненные и пленные российские солдаты. Именно тогда, Сергей Ковалев, видя расстрел прямой наводкой российской бронетехники и массовую гибель российских бойцов, стал призывать по рации прекратить неподготовленный штурм и выйти войскам из города.
Сергей Адамович не раз и в последующем выезжал в зоны конфликтов, участвовал в освобождении заложников, в том числе и в печально знаменитом Буденновске. За участие в освобождении полутора тысяч заложников в Буденновске награжден высшей наградой Французской Республики — Орденом Почетного легиона.
Несколько раз приезжал в Чистополь после освобождения. Должность Уполномоченного по правам человека в РФ открывала ему двери всех пенитенциарных учреждений страны. В Чистополе посетил свою бывшую камеру. Был в Музее Пастернака, оставил в Книге отзывов свою запись. Интересно, есть ли в Чистопольской тюрьме Книга отзывов?
Сергей Иванович Григорьянц. Советский диссидент, бывший политзаключенный, журналист, литературовед, основатель и глава фонда «Гласность». Отец, Григорьянц Ованес Агабегович, юрист по профессии, пропал без вести во время Великой Отечественной войны. Григорьянц — один из немногих политзеков, посидевших в Чистопольском остроге два раза. Интересна история его появления в Чистопольской тюрьме во время первого срока. Дальше идет рассказ от фактически первого лица, и лицо это вы все хорошо знаете — Рафаил Хамитович Хисамов, работавший в то время в школе для заключенных — в стране всеобщего среднего образования, каждый, даже зэк, должен иметь возможность его получить.
«Задал я однажды своим школьникам домашнее задание, что-то там на тему Чацкого из «Горя от ума». И приносит один из учеников мне на урок несколько аккуратно написанных листочков, а раньше от него и полстраницы невозможно было добиться. Читаю, и глазам не верю — блестящее эссе с анализом пьесы и великолепными развернутыми характеристиками самого Чацкого, написанное с совершенно нетривиальным подходом к произведению и главному герою. Такого в учебнике точно нет. Статья для толстого литературного журнала. «Где ты это взял», — спрашиваю. «Сиделец новый появился. Ох, и грамотный, прямо профессор. Столько знает, а как рассказывает! И умны-ы-й! Добился, чтобы лапочку нам в хате поменяли, стихи нам читает, истории разные рассказывает.»
Так в Чистопольской тюрьме появился Сергей Григорьянц. Дело в том, что первый срок он получил по прокурорской статье, еще в 1975 году — пять лет заключения по обвинению в «распространении заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй» (продажа знакомому нескольких зарубежных изданий), а также за спекуляцию произведениями искусства (перепродажа рисунков и картин). Сам Григорьянц утверждал, что его действия не выходили за рамки обычной деятельности коллекционеров, то есть обмена одних предметов на другие и освобождения коллекции от ненужных предметов. Обычно политических не подселяют к сидящим по прокурорским статьям — все равно их выживут из камеры. Сидели диссиденты в отдельном крыле, да и появились они в Чистопольском остроге только через несколько лет. Вот и попал Сергей Григорьянц, осужденный по обычной уголовной статье, в «хату» к простым уголовникам. И прижился, даже авторитетом стал у них. Сергей Иванович смог добиться разрешения пополнить тюремную библиотеку книгами из своей личной коллекции, так что сегодняшние зеки, возможно, читают книги Сергея Григорьянца.
После освобождения распространял в самиздате информацию о нарушениях прав человека в СССР, издавая правозащитный информационный бюллетень — «Бюллетень В». В 1983 году был вновь арестован и осуждён на семь лет строгого режима по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. Снова попал в Чистопольскую тюрьму, но теперь уже в «правильное», в свое крыло. Помилован Горбачевым в 1987 году на волне реформаторских изменений, причем помилован без всяких просьб со своей стороны. Здесь Сергей Григорьянц был непреклонен — виновным себя не считал.
В мае 1989 года Григорьянц создал и возглавил профсоюз независимых журналистов, в который вошли журналисты, представлявшие независимую, самиздатскую печать в СССР. Великолепное образование и блестящий литературный стиль Сергея Григорьянца оценила Всемирная газетная ассоциация, наградившая Сергея Ивановича престижным «Золотым пером свободы».
Григорьянц всегда обладал собственным мнением, и неуклонно его отстаивал. Так еще в далеком 1991 году Сергей Григорьянц убеждал, что вся перестройка устроена КГБ с наихудшими целями и суть её в том, чтобы Комитет пришёл к власти.
В 1993 году Григорьянц уже однозначно оказался на стороне оппозиции и жёстко осудил расстрел Белого дома, как уничтожение парламентаризма в России. Эту черту — ликвидацию буржуазной демократии — через которую с лёгкостью перешагнули едва ли не все тогдашние либералы, он категорически отказался переступать. К чему это привело, мы наблюдаем сегодня, достаточно вспомнить крылатую фразу одного из спикеров Государственной Думы: «Дума — не место для дискуссий!» Кто вспомнит, чьи это слова?
Не любил Солженицына за неискренность, но дружил с Варламом Шаламовым. Был страстным коллекционером искусства — в традициях ещё той, дореволюционной интеллигенции. В 2013 году он устроил выставку более 400 картин из своего собрания, в том числе работ кисти Малевича, Кустодиева, Айвазовского, Кандинского, старых европейских мастеров.
В 2000-х годах Сергей Григорьянц находился в резкой оппозиции к политике власти, в частности, протестовал против ущемления в России демократических свобод. Участник протестов на Болотной площади.
Скончался 14 марта 2023 года в Москве на 82-м году жизни. Скоро два года как не стало правозащитника (от слов защитника права!) Сергея Ивановича Григорьянца.
Натан Щаранский после освобождения:
Из тюремной карточки заключенного Ковалева: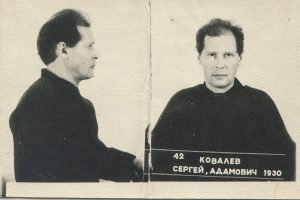
Фото Чистопольской тюрьмы из самиздатовского сборника:
От сумы, да от тюрьмы… (часть 10)
#нашчистополь #экскурсиипочистополю #чистопольскаятюрьма #музейполитическихрепрессий
Не следует считать себя неуязвимым, надежно защищённым от какого-либо несчастья…
Продолжаю печальный мартиролог политических сидельцев нашего Чистопольского острога.
КАЗАЧКОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ. Обычно после этого говорят, или пишут — последний политический заключенный, что, конечно же, в сегодняшних реалиях не соответствует действительности.
Родился 7 декабря 1944 г. в Москве, вырос в Ленинграде. Папа — реставратор в Русском музее, мама, Дора Аркадьевна — преподаватель. Образование высшее. Физик, младший научный сотрудник отдела теоретической физики физико-технического института им. А.Ф. Иоффе Академии наук СССР. Владел английским, хорошо разбирался в живописи. Регулярно встречался с иностранцами, приезжавшими в Ленинград, проводил экскурсии практических для всех западных гостей Физтеха. Кроме научной работы занимался коллекционированием предметов искусства – большая, официально зарегистрированная коллекция картин осталась ему от отца. В 1975 г. подал документы на выезд из СССР, неоднократно встречался с вице-консулом США.
Через 10 дней после подачи заявления был арестован. Казачкову вменялись валютные махинации, спекуляция, попытка контрабанды и измена Родине. 1 октября 1976 года городской суд Ленинграда осудил Михаила Казачкова по ст. 64 «а» — «Измена Родине», 78 — «Контрабанда», 15-78 — «Ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление» — «Контрабанда», 88 ч. 1 — «Нарушение правил о валютных операциях, а также спекуляция валютными ценностями или ценными бумагами», 154 ч. 2 — «Спекуляция, совершенная неоднократно, или в крупных размерах» УК РСФСР и приговорил к лишению свободы на 15 лет строгого режима с конфискацией имущества и валютных ценностей. Место отбывания заключения: все три уральские зоны, мордовская зона, четыре!!! перевода на тюремный режим в Чистопольскую тюрьму. Во время пребывания в Чистопольской тюрьме народный суд города Чистополь осудил Михаила Казачкова по статье 206-2 — злостное хулиганство (разбил окно в камере) еще на 3 года и 6 месяцев.
Был одним из самых активных участников правозащитных акций защиты заключенных. Многократно помещался в штрафной изолятор и ПКТ в лагерях, в карцер и одиночные камеры в Чистопольской тюрьме, держал длительные голодовки.
B ноябре 1990 года освобожден именным указом за подписью Б.Н. Ельцина и вышел из Чистопольской тюрьмы последним политическим заключенным СССР.
Кроме этой официальной информации о Михаиле Казачкове известно немногое, да и видные правозащитники, тот же Сергей Ковалев говорили о нем с неохотой, подчеркивая. что правозащитником Казачкова можно называть лишь с большой натяжкой. И сам Казачков говорил о себе: «Я не способен быть автоматически лояльным ни стране, ни режиму, ни институтам, ни каким-либо абстрактным идеям. Только отдельным людям, и только если они в моем понимании того заслуживают».
В 2001 году в газете «Красная звезда» вышла большая статья о Михаиле Казачкове. В главной газете военного ведомства бывший сотрудник КГБ обвинял Казачкова в двойной игре — работая «секретным сотрудником» советских органов, Казачков одновременно налаживал связи с органами разведки США — вице-консул, с которым встречался не раз Казачков на самом деле был кадровым разведчиком ЦРУ.
В августе 2007 года в «Новой газете» вышла статья Леонида Никитинского (может быть, кто-то еще помнит статьи этого прекрасного журналиста), под заголовком «Михаил Казачков. Стремление к счастью. Три попытки». В статье он собрал несколько мнений о Михаиле Казачкове.
Юрий Орлов, участник Великой Отечественной войны, известный ученый-физик, основатель и лидер с 1976 г. Московской Хельсинкской группы. Арестован в начале 1977 года, приговорен к 7 годам лагерей строгого режима и 5 годам ссылки за правозащитную деятельность. 5 октября 1986 г. в обмен на арестованного в США советского разведчика выслан в США и лишен советского гражданства: «Разумеется, я помню Михаила Петровича! Мы с ним еще устраивали в зоне физический семинар. Так, понарошку, чтобы не потерять форму…Разные были и люди, и судьбы. Трудно кого-либо осуждать, но Казачков избрал самый правильный путь — выживали только те, которые пытались сопротивляться вопреки всякой неизбежности»…
Арсений Рогинский, историк, один из создателей исторического сборника «Память» в самиздате. В 1981 году арестован и осужден. После освобождения в 1985 году продолжил научную и общественную деятельность. В 1988-1989 гг. стал одним из основателей общества «Мемориал». «Михаил Казачков? Ну, не совсем, конечно, случайный, с точки зрения его судьбы, но все-таки пассажир. Не скажу, чтобы в политических лагерях таких было много, все же обычно те, кто туда попадал, что-то такое делал. Ну, а в лагере-то он стал уже диссидентом, его считали своим».
В Чистополе Михаил Казачков какое-то время сидел в одной камере с разоблаченным агентом американских спецслужб Борисом Южиным. Занимался йогой.
Вскоре после освобождения выехал за рубеж в лекционную поездку. B феврале 1991 года после выхода в эфир программы «Пятое Колесо», посвященной eгo делу, стал объектом публичных yгpoз нового уголовного преследования, в cвязи с чем в CССР не вернулся.
Зимой 1992/93 создал для работы в Pоссии Freedom Channel, Inc.- «Канал свободы» — некоммерческую американскую корпорацию со смешанным русско-американским советом директоров. Казачков выпустил в российский национальный эфир более 20-ти документальных программ. Его Freedom Channel получил премию фонда Сороса за лучшую телевизионную работу первой кампании по выборам в Государственную Думу. Провел в Москве две конференции «Телевидение и Политика»; консультировал ГосДуму пo созданию ее радио и TB службы; подготовил для Мирового Банка альтернативную политику РФ в oбласти связи и oрганизовал в Москве международную конференцию для ее продвижения. Был основателем российского Института Информационного Общества.
Еще один «чистопольский сиделец» — ГЕНРИХ ОВАНЕСОВИЧ АЛТУНЯН. Родился в 1933 году в Тбилиси в семье военнослужащего. . Закончил Харьковское высшее авиационно-инженерное училище, по образованию — инженер- радиоэлектронщик. Послужил в авиационных войсках. С 1961 года — зав. отделом, зав. лабораторией, преподаватель родного училища. Был идейным коммунистом и членом КПСС, парторгом кафедры, готовился к защите кандидатской диссертации. Во второй половине 60-х гг. сблизился с украинским диссидентом Леонидом Плющем, генералом-диссидентом Петром Григоренко и Павлом Якиром. В 1968 году уволен со службы за связь с диссидентами и распространение письма академика Андрея Сахарова, исключен из КПСС. Написал открытое письмо к общественности в поддержку крымских татар. В мае 1969 г. стал одним из членов-основателей инициативной группы по защите прав человека в СССР. В июне 1969 г. в числе десяти известных правозащитников обратился с письмом к Международному совещанию коммунистических и рабочих партий и подписал письмо в защиту Яниса Яхимовича.
Арестован 11 июля 1969 г. и осужден по ст. 187-1 — «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй» УК УССР к 3 годам лишения свободы в ИТЛ. Инкриминированы обнаруженные при обыске машинописная копия романа Александра Солженицына «Раковый корпус», выпуски правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий», работы Андрея Сахарова, «антисоветские» тексты собственного сочинения. Заключение отбывал в Красноярском крае. Освобожден по отбытию срока заключения. 10 июля 1972 г. Вернулся в Харьков, устроился электриком в «Харьковтехпром». Дальше все как у всех правозащитников: участие и распространение Самиздата, подписи в защиту Сахарова, вызов для профилактической беседы в Харьковский отдел КГБ. После Алтунян издевательски передал текст профилактической беседы в один из самиздатовских сборников. 16 декабря 1980 года вновь арестован. Генриху Алтуняну было инкриминировано осуждение ввода советских войск в Чехословакию, распространение книги А.И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» и другого самиздата, отзывы об А.Д. Сахарове и П.Г. Григоренко, авторство «клеветнического» текста «Краткая запись двух бесед». 21 марта 1981 года осуждён по ст. 62 УК УССР к 7 годам лишения свободы и 5 годам ссылки. Сначала сидел в политзоне №36 (Пермь-36) в Кучино Пермской области. Из-за участия в борьбе политзаключенных против администрации лагеря Алтунян не вылазил из ШИЗО и ПКТ, в итоге ему заменили режим на тюремный: выслали на 3 года в Чистопольскую тюрьму.
В марте 1987 года был помилован указом Горбачева, хотя никогда не признавал себя виновным и просьбы о помиловании не подавал. В том же году вновь стал слесарем Харьковского предприятия «Кинотехпром». В 1990 — 1994 гг. — народный депутат Украины, член постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности, заместитель председателя комиссии по помилованиям при Президенте Украины. Был членом Центрального Провода Народного Руха Украины, председателем его Харьковской краевой организации, сопредседателем Харьковского «Мемориала».
«Генчик – человек редкий. Не только потому, что он никогда и ничего не боялся, всегда и везде следовал своим убеждениям, но из-за своего уникального отношения к людям. Он был бесконечно добрым человеком и всегда был готов помочь своим друзьям и знакомым…Не только изменить своим убеждениям, но даже скрывать их Генчик был органически не способен. Добрый, обаятельный, по-южному шумный, он был центром харьковского диссидентского круга, и как только из Москвы была дана команда «фас» от страха перед повторением у нас польской «Солидарности», Генчика снова арестовали – 14 декабря 1980 года. Его судили за слова, за хранение самиздата. Даже адвокат по назначению во время процесса сказал, что не находит в его действиях состава преступления. Сам процесс был откровенным фарсом и вызвал реакцию, обратную той, на которую рассчитывал КГБ: вместо страха – избавление от каких бы то ни было иллюзий по отношению к власти у тех, кто еще какие-то иллюзии имел», — так говорил о Генрихе Алтуняне председатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.
АНЦУПОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ — один из тех, кто тоже смотрел на чистопольское небо из окна с решеткой.
Родился 20 января 1940 г. с. Отказное Александровского района Ставропольского края. Пр образованию — историк. Работал научным сотрудником в музеях и НИИ. Исследовал вопросы периодизации истории, ее цикличность. Автор ряда неизданных исторических работ: «Философия истории», «Западные культуры в таблицах Шпенглера», «Исторический прогноз будущего». Считал, что его теория может с определенной степенью вероятности прогнозировать будущее. Подготовил диссертацию по этой теме, но ни один ВУЗ не принял ее для защиты, публикации или квалифицированного обсуждения. Свою работу «О сроках ближайшей войны, театре и вероятном количестве участников», направил в ЦК КПСС, КГБ, Министерство обороны. Считая, что в СССР невозможно заниматься исторической наукой, добивался выезда из страны. После подачи заявления на выезд, уволен из Госархива, последнего места работы, устроился рабочим в совхозе «Сердобский» Пензенской области.
Арестован 24 апреля 1981 г. следователем по особо важным делам прокуратуры Харьковской области по подозрению в совершении кражи!?. Осужден 14 августа 1981 г. по ст. 62 ч. 1 — «Антисоветская агитация и пропаганда» УК УССР к лишению свободы на 6 лет и ссылке на 5 лет. Одно из обвинений против Евгения Анцупова – распространение им фотографий с изображением его самого, и его товарищей, держащих плакаты с требованием выезда из СССР. На суде виновным себя не признал, заявив, что его отъезд, навредит стране лишь тем, что ослабит ее оборонную мощь на одну человеческую единицу. Во время процесса позволил себе поиздеваться над судом: выяснив, что все члены суда состоят в партии, выдвинул ходатайство ввести в состав суда хотя бы одного беспартийного.
Заключение отбывал в Мордовском лагере ЖХ-385/3-5. Был активным участников многих выступлений политзаключенных. Многократно водворялся в штрафной изолятор (ШИЗО) и помещения камерного типа (ПКТ). 28 декабря 1983 г. был переведен на 3 года на тюремный режим и отправлен в тюрьму г. Чистополь Татарской АССР. В тюрьме неоднократно водворялся в карцер и переводился на строгий режим.
По окончанию тюремного срока в декабре 1986 г. был этапирован в Пермские политлагеря. При пересылке, в пермском следственном изоляторе №1, перенес тяжелый инфаркт. Тем не менее 11 января 1987 г. был доставлен в лагерь Пермь-36, в котором находился всего две недели – обычный срок карантина для вновь прибывших заключенных, после чего 25 января был отправлен обратно в пермский следственный изолятор и 28 января – за три месяца до окончания лагерного срока – решением Пермского областного суда был освобожден от дальнейшего отбывания наказания по состоянию здоровья и на носилках отправлен в Харьков, откуда вскоре был вынужден вместе с семьей уехать в Германию, где перенес две операции на сердце.
Еще одного сидельца Чистопольской тюрьмы также причисляют к диссидентам. Это АРЕНБЕРГ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ. До ареста работал слесарем на Пушкинском ремонтном заводе. А причисляют по той причине, что Вадим Аренберг создал группу, пытавшуюся угнать самолет за границу, взяв в заложники пассажиров, и, приземлившись в Осло «осуществить задержание там экипажа и пассажиров самолета и под угрозой их расстрела предъявить требования к Советскому правительству об освобождении в двухдневный срок из мест заключения и отправке за границу осужденных советскими судами: за измену Родине и антисоветскую агитацию НАТАНА ЩАРАНСКОГО, за антисоветскую агитацию АЛЕКСАНДРА ГИНЗБУРГА и ЮРИЯ ОРЛОВА» — цитата из предъявленного обвинения. «Кроме того, оказавшись за границей, совместно с подсудимым АРЕНБЕРГОМ Алексеем Павловичем готовился выступить на пресс-конференциях и в печати с заявлениями, направленными против политики КПСС и Советского правительства, а также принять участие в деятельности зарубежных организаций, ведущих подрывную работу против Советского государства» — еще одна цитата.
Для угона самолета были привлечены его младший брат Алексей, Михаил Лебедев и две их приятельницы Крылова Людмила и Людмила Листвина. Был разработан и план угона и изготовлены орудия устрашения экипажа — два макета ручных гранат, два ножа и обрез охотничьего ружья с четырьмя патронами. Кроме того при задержании у угонщиков была найдена карта северо-Запада СССР и части Скандинавского полуострова.
План угона был прост: «захват самолета ТУ-134, вылетающего из Ленинграда 6 января 1979 г . в 15 час. 55 мин., рейсом 8308 по маршруту: Архангельск-Ленинград-Рига. Спустя 10 минут после вылета из аэропорта «Пулково», Вадим Аренберг, вооружившись обрезом охотничьего ружья и макетом гранаты, с применением насилия и угроз должен был захватить названный самолет, потребовать у бортпроводницы под угрозой взрыва воздушного судна разоружить экипаж, сдать ему все находящееся у летчиков оружие, после чего принудить экипаж изменить курс в направлении Стокгольма, т .е . осуществить угон самолета за границу» — из материалов дела.
Конечно, угонщиков задержали еще до посадки в самолет. Аренберг Вадим Павлович осужден по ст. 64 «а» — «Измена Родине» и 72 — «Организационная деятельность, направленная к совершению особо опасных государственных преступлений, а равно участие в антисоветской организации» УК РСФСР к лишению свободы на 13 лет. Заключение отбывал в лагерях Пермь-35 и Пермь-36. 31 августа 1981 г. был переведен на тюремный режим в тюрьму г. Чистополь Татарской АССР сроком на 3 года за то, что пытался послать официальным образом, через лагерную цензуру поздравительную телеграмму Менахему Бегину в связи с его назначением премьер-министром Израиля.
По освобождении жил в Харькове, работал преподавателем иврита в ешиве при харьковской синагоге, потом все же выехал в США. Работал таксистом, водителем в доме престарелых.
Учетная карточка з/к Михаила Казачкова: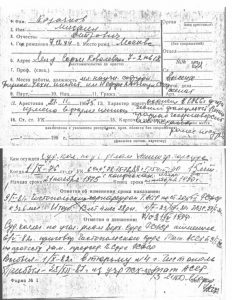
Генрих Алтунян рядом с Петром Григоренко (в центре):
Учетная карточка з/к Алтуняна. (найдите слово «Чистополь»: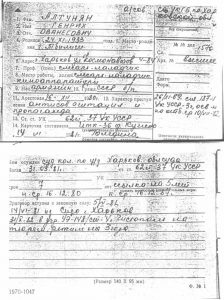
Учетная карточка з/к Евгения Анцупова: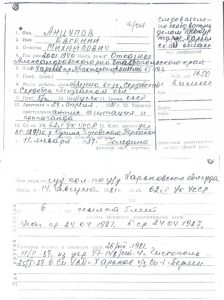
Одно из застолий с Сергеем Григорьянцем: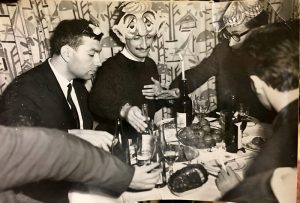
#нашчистополь#экскурсиипочистополю#чистопольскаятюрьма#музейполитическихрепрессий
Не следует считать себя неуязвимым, надежно защищённым от какого-либо несчастья…
Тема памяти политических узников тюрьмы нашего Чистополя, похоже, неисчерпаема. И все же я считаю своим гражданским долгом ее продолжать. Пусть не будет Музея политических репрессий, но память о людях, попавших за решетки Чистопольского острога только за то, что думали инако, должна сохраниться.
Еще один представитель политических «сидельцев» Чистопольской тюрьмы — ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ОГУРЦОВ, русский христианский мыслитель, лидер антикоммунистического подполья в СССР, основатель и руководитель Всесоюзного социал-христианского союза освобождения народа (ВСХСОН), востоковед, политзаключенный, отсидевший в тюрьмах и лагерях 20 лет, больше, чем кто-либо из диссидентов. Из них в Чистополе — три года. В программе организации говорилось о преобразовании СССР в православное русское государство. Так, высшей властью должен был стать Верховный собор, состоящий из церковной иерархии и пожизненно избранных «выдающихся представителей нации».
Родился 22 августа 1937 года в Сталинграде в семье потомственного инженера-кораблестроителя. Учился на философском и восточном факультетах Ленинградского государственного университета, который окончил в 1966 году. Работал редактором в ЦНИИ информации и технико-экономических исследований.
15 февраля 1967 года арестован КГБ за участие в подпольной организации, имеющей целью свержение советского строя. У членов ВСХСОН была изъята «антисоветская ревизионистская и революционно-реакционная литература»: из 50 наименований 23 — работы религиозного философа Николая Бердяева, остальные — Семен Франк, Иван Ильин, Бертран Рассел, Ортега-и-Гассет, Ричард Пайпс, Томас Элиотт, мемуары белых генералов, много самиздата и публикаций парижской YMCA-Press. Кроме того, к делу приобщили пишущие машинки, фототехнику и химикаты для проявки и печати фотографий, 24 экземпляра «Программы ВСХСОН», шесть тысяч кадров фотокопированных книг и рукописей, включая, например, «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург. И один пистолет системы «Маузер» образца 1898 года.
3 декабря 1967 года приговорён к лишению свободы по обвинению в измене родине (ст. 64 п. «a», 72 УК РСФСР) на 15 лет с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а остального срока — в исправительно-трудовой колонии строгого режима с последующей ссылкой на 5 лет, без конфискации имущества за отсутствием такового.
За участие в забастовке заключённых срок заключения был переквалифицирован — 10 лет тюрьмы вместо семи. Друзья называли его «последним рыцарем чести». Отбыл срок полностью. После выхода был фактически выдворен из страны и лишен гражданства.
В 1992 году вернулся в Россию. В 1997 году основал в Санкт-Петербурге благотворительный фонд «Милосердие».
За свою деятельность удостоен почётного французского гражданства , почётного гражданства города Энн-Арбор (штат Мичиган, США), званий члена ПЕН-клуба, почётного члена Союза Русских Белогвардейцев и их потомков в Болгарии и других наград.
Жил в Санкт-Петербурге. Властями Российской Федерации не реабилитирован. Скончался 13 сентября 2023 года на 87-м году жизни
«Общество, разделённое на ничтожную группу олигархов и поддерживающие их криминальные прослойки и противостоящую им всем оставшуюся пролетаризованную массу, не имеет перспективы. Если страна сумеет выжить в борьбе, то в ней неизбежен процесс складывания и консолидации среднего класса.
Средний класс определяется не только уровнем своих доходов, сколько той незаменимой для нации и государства социальной ролью, которую он выполняет. Включая в свой состав людей науки и искусства, духовенство, педагогов и врачей, инженеров и квалифицированных рабочих, фермеров, государственных служащих и т.д., он охватывает самые широкие слои общества и, проникнутый патриотическим сознанием, служит незыблемой стабильности и национальному процветанию» — из интервью Игоря Вячеславовича Огурцова 2005 года.
Но оставь, художник, вымысел,
Нас в герои не крои,
Нам не знамя жребий вывесил,
Носовой платок в крови…
А.Галич, «Гусарская песня»
В Чистопольской тюрьме, в крыле для политзаключенных, в 70-х, 80-х годах содержались и участники национально освободительного движения Армении. Вот их имена. АРШАКЯН АЗАТ ЛЕВИКОВИЧ, НАВАСАРДЯН АШОТ ЦОЛАКОВИЧ, и НАЗАРЯН РОБЕРТ ХАЧИКОВИЧ, ЗОГРАБЯН РАЗМИК АРТАВАЗДОВИЧ.
Если диссидентство в советское время для россиян, граждан России, – это, в первую очередь, правозащитная деятельность, самиздат, религиозные убеждения, то в Армении на первом месте было национальное право. Армянские диссиденты были вдохновлены идеями сохранения национальной идентичности, обретения государственной независимости и самоопределения. Так существовавший с 1962 по 1966 год Союз молодежи Армении своей целью ставил официальное признание Геноцида армян, организованного Османской империей во время первой мировой войны, провозглашение 24 апреля днем национального траура и строительство соответствующего мемориала, возвращение утраченных исторических территорий Армении – Карабаха и Нахичевана и неприкосновенность и сохранность армянского языка. После Союза молодежи, в 1968 году, появилась подпольная оппозиционная политическая партия со своим печатным органом «Парос» — Маяк, распространяемым в виде листовок. Это была Национальная объединенная партия (НОК). Просуществовала она дл 1987 года. Целью НОК было создание независимого Армянского государства и возвращение на родину армян-эмигрантов. Членами этой партии, участниками национально-освободительного движения в Армении и были вышеназванные узники Чистопольской тюрьмы. Надо отметить, что диссидентов в местных тюрьмах Армении чрезвычайно уважаемо встречали уголовники-авторитеты. Борьба за независимость и за воссоединение с утраченными территориями являлась почетной и, одновременно, жертвенной миссией огромного количества жителей Армении, в первую очередь молодежи.
АРШАКЯН АЗАТ ЛЕВИКОВИЧ. Родился в 1950-м в Ереване. Работал слесарем на шинном заводе. После первой судимости — шофером Армторгтранса. В 1966 вступил в «Армянский союз молодежи». затем в ряды Национальной объединенной партии. Участвововал в печатании и распространении листовок. Один из организаторов сожжения весной 1974 года гигантского портрета Ленина на центральной площади Еревана — им. В.И. ленина. Арестован в апреле того же года. Портрет Ленина оценен в 2500 рублей, в связи с чем, задержанному предъявлен денежный иск. Обвинялся в антисоветской агитации и пропаганде, в организации мероприятий, направленных на совершение особо опасных антигосударственных мероприятий и нарушение национального и расового равноправия. Приговорен к скми годам лагерей и трем голам ссылки.Отбывал наказание в Мордовии, в Дубравлаге. В апреле 1977 по прошении о помиловании был освобожден досрочно. В феврале 1981 года арестован во второй раз. Приговор — 8 лет лагерей (из них первые 3 года тюремного заключения) и 3 года ссылки. Срок отбывал в Чистопольской тюрьме и Пермских лагерях для политзаключенных (Пермь-36, 37). Освобожден благодаря Горбачевской перестройке в 1987 году. В 1980-м выбран в Верховный Совет, а в 1995-м — в Национальное собрание Армении. Основатель Христианско-демократического союза Армении.
НАВАСАРДЯН АШОТ ЦОЛАКОВИЧ, родился в 1950-м году в Ереване. Работал мотористом на аэродроме «Южный» электриком на заводе «Поливинилацетат», электриком на товарно-этикеточном комбинате. 24 апреля 1967 года принимал участие в организации радиовещания в мемориальном комплексе, посвященного геноциду армян. Участвовал в распространении листовок. Арестован в апреле 1969 года и осужден на два года заключения. Срок отбывал в Мордовском лагере для политзаключенных — Дубравлаг. В 1971-м вернулся в Ереван и продолжил подпольную деятельность — организовал ячейку НОТ, занимающуюся изготовлением листовок, призывающих к независимости Армении. В марте 1974-го вновь арестован и приговорен к семи годам лагерей и двум годам ссылки. Освобожден в 1976 году по помилованию. В январе 1981-го под изданием НОТ — газетой Парос» поставил свою подпись, чего раньше никогда не делалось. Через неделю был арестован в третий раз. Суд признал Навасардяна особо опасным рецидивистом. Приговор — 8 лет лагерей (из них первые 3 года тюремного заключения) и 3 года ссылки . Вот эти первые три года, с 1981 по 1983 год, Назарян и провел в Чистопольской тюрьме особого режима. Помилован Указом Президиума ВС СССР 10.08.1987 года. С 1989 года занимался организацией военизированных отрядов, осуществлявших охрану границ Армении. В 1990 году основал Республиканскую партию Армении. В 1995-м был выбран в Национальное собрание Армении. Скончался в 1997 году.
ЗОГРАБЯН РАЗМИК АРТАВАЗДАТОВИЧ. Родился в Ереване в 1950-м году. Работал слесарем наладчиком на Электромеханическом заводе. В его съемной квартире была организована подпольная типография. Участвовал в сжигании портрета Ленина в 1974 году, после чего и был арестован. Судили Размика вместе с Азатом Аршакяном. Статьи — те же, антисоветская агитация и пропаганда, организация мероприятий, направленных на совершение особо опасных антигосударственных мероприятий и нарушение национального и расового равноправия. Приговор — 7 лет лагерей и 3 года ссылки. Срок отбывал в Дубравлаге, Пермских лагерях, Владимирской и Чистопольской тюрьмах, куда его переводили з анарушения лагерного режима, ссылку — в Иркутской области. Отсидел все полностью. В 1984-м вернулся в Армению. В 2002-2007 годах работал Советником Премьер-министра Армянской Республики.
НАЗАРЯН РОБЕРТ ХАЧИКОВИЧ. Родился в 1948 году в Ереване. Окончил Физфак Ереванского госуниверситета и Эчмиадзинскую семинарию. Работал в Бюраканской астрономической обсерватории. В 1969-м исключен из комсомола и отчислен из университета. Восстановлен по требованию студентов (можно такое представить в России?). Член Национальной объединенной партии. Организатор Армянской Хельсинской группы. Активно сотрудничает с редакцией «Хроники текущих событий» — правозащитного бюллетеня. Организует сбор средств для помощи семьям политических заключенных, переправляет материалы «Самиздата» в Армению. Арестован в декабре 1977 года. Осужден за антисоветскую агитацию и пропаганду на 7 лет лагерей и 2 года ссылки. 27 октября 1981 года Зубово-Полянский народный суд Мордовской АССР установил: « Гр-н Назарян Р.Х., отбывая наказание, администрацией мест лишения свободы характеризуется крайне отрицательно, к труду относится недобросовестно, систематически и злостно нарушает режим содержания, за что неоднократно водворялся в ШИЗО и ПКТ. Всего допустил 42 нарушения. В связи с тем, что все меры воспитательного характера, предусмотренные законом, исчерпаны и положительных результатов не дают… перевести гр-на Назаряна Р.Х. для дальнейшего отбывания оставшегося наказания на тюремный режим сроком на один год один месяц и двадцать мять дней. Так гр-н Назарян Р.Х. оказался в Чистопольской тюрьме. Это уже октябрь 1981-го. После Чистополя — ссылка в Красноярский край, в поселок Абан. Позже эмигрировал в США.
БАЛАКИН ИВАН КУЗЬМИЧ. О нем почти ничего не известно, кроме того, что осужден по антисоветской статье. Родился 13.06.1942 года, УССР, Днепропетровская область, Никопольский район, село Вышетарасовка; украинец; образование 7 классов. Заключенный ИТК в поселке Шахтном Днепропетровской области, дважды судим по общеуголовной статье.
17 ноября 1972 года осужден Днепропетровским областным судом по статье 62 ч.1 УК УССР. (Антисоветская агитация и пропаганда) Приговор: 6 лет с присоединением неотбытого срока, всего 7 лет 2 месяца 17 дней. Срок отбывал в Дубравлаге, Владимирской тюрьме, Чистопольской тюрьме. Источник: НИПЦ «Мемориал», Москва.
БАЛАХОНОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ Родился в 1935 году в г. Москве. образование высшее. Работал переводчиком советской делегации в комитете по метеорологии при ООН в Швейцарии. «Невозвращенец», решил не возвращаться в СССР, затем, по ложному вызову жены, устроенному Комитетом, 1 декабря 1972 года, все же вернулся в СССР. Арестован 7 января 1973 года и по статье 64 п. «а» — «Измена Родине» УК РСФСР к лишению свободы на 12 лет.
Отбывал заключение в лагерях Пермь-36 и Пермь-36. В январе 1975 года отправлен в психиатрический корпус больницы лагеря ЖХ-385/3 Мордовской АССР, откуда на 3 года был переведен на тюремный режим в тюрьму № 2 города Владимир. 3 июня 1978 года возвращен в лагерь Пермь-36. 29 сентября 1978 г. снова был переосужден на 3 года тюремного режима за «систематическое нарушение режима и отрицательное влияние на других осужденных», и в октябре 78-го доставлен в тюрьму города Чистополь Татарской АССР. В октябре 1981 года возвращен в лагерь Пермь-36. В конце 1983 года в третий раз, был переведен на тюремный режим и снова отправлен в Чистопольскую тюрьму, уже до конца срока. Помещен в одну камеру с Сергеем Григорьянцем.
Был одним самых активных участников правозащитных акций заключенных. Писал и подписывал коллективные заявления, письма, обращения, держал многочисленные и многодневные голодовки, большую часть срока находился в штрафном изоляторе и помещениях камерного типа, в тюрьмах неоднократно водворялся в карцеры и одиночные камеры.
Освобожден 7 января 1985 г. Поселен под надзор в город Таруса Калужской области.
Был снова арестован 29 мая 1985 года и осужден Калужским облсудом по статье 190-1 УК РСФСР -«Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй» к лишению свободы на 3 года. Инкриминированы «устные клеветнические высказывания».
После освобождения в 1988 года эмигрировал в Швейцарию, где и скончался от тяжелых хронических болезней, полученных в заключении.
БОГАЧЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ. В базе данных общества «Мемориал» числится политзаключенным, осужден по статье 64 п. а — «Измена Родине», статье 259 п. г — «Разглашение военных сведений, не подлежащих оглашению, но не являющихся государственной тайной», п. а -«Разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, при отсутствии признаков измены Родине» УК РСФСР. Так что в нашей Чистопольской тюрьме он составил пару бывшему подполковнику КГБ Борису Южину, осужденному за шпионскую деятельность.
Родился 24 декабря 1958 г. в поселке Новогорск Химкинского района Московской области. Русский. Образование среднее. Профессия — электромонтажник. Военнослужащий срочной службы. Член ВЛКСМ. Внештатный? делопроизводитель? секретного? отдела? Политуправления Центральной группы войск (как это понимать — я не знаю).
Арестован 29 декабря 1978 года Особым отделом КГБ СССР по Центральной группе войск. Осужден 26 июля 1979 года Военным трибуналом Московского военного округа по статьям 64 п. «а», 259 п. «г», п. «а», 43, 40 УК РСФСР. Срок 7 лет, с отбыванием 2-х лет в тюрьме, без ссылки с конфискацией принадлежащих ему 230 чехословацких крон.
Заключение отбывал в тюрьме № 4 города Чистополь Татарской АССР и лагере Пермь-35. Принимал участие в лагерных забастовках, помещался в ШИЗО. Освобожден 16 сентября 1983 г. по помилованию с заменой неотбытого срока наказания условным с испытательным сроком 2 года.
#нашчистополь #экскурсиипочистополю #чистопольскаятюрьма #музейполитическихрепрессий
Не следует считать себя неуязвимым, надежно защищённым от какого-либо несчастья…
Вновь продолжаю разговор о политзаключенных, «отщепенцах», как называла их советская пресса, сидевших в Чистопольской тюрьме в 70 — 80-е годы.. Вот выписка из самиздатовских «Вестей из СССР», №17 от 15 сентября 1980 года:
В Чистопольской тюрьме сейчас находятся следующие политзаключенные: Особый режим: Ю. Шухевич, Ф. Труфанов.
Строгий режим:
1-я камера: И. Огурцов, Б. Лизюнас, В. Балахонов, В. Константиновский (осужден за шпионаж, обвинение не фальсифицировано).
2-я камера: М. Казачков (с начала июня начал голодовку в знак протеста против того, что его жалобы не отправляются,помещен в одиночку).
3-я камера: Ю. Богин, Юрьев, Ивлюшкин, Богачев (все четверо за шпионаж в армии, обвинение, по-видимому, не фальсифицировано). На работу выходят лишь Шухевич, Лизюнас и пятеро осужденных за шпионаж. Остальных за отказ от работы не наказывают, но вычитают деньги за питание с лицевых счетов заключенных (конец цитаты).
ЮРИЙ РОМАНОВИЧ ШУХЕВИЧ. Уже тридцать пять лет, как кончилась война, а для сына Главнокомандующего Украинской Повстанческой Армии — (УПА), она продолжалась и в 1980-м.
Родился 28 марта 1933 года в селе Оглядов Львовского воеводства, Польша. Ошибки тут нет — Львовская область до 1945 года принадлежала Польше. С 1939 по 1941 год Шухевичи жили в Кракове, а с 1941 года — во Львове. В 1945-м, когда Юрию было 12 лет, его самого, сестру, деда и бабушку арестовали «за связь с антисоветским подпольем». Дед, Иосиф-Зиновий Владимирович Шухевич (1879—1948) и бабушка Юрия — Евгения-Эмилия Ивановна (1883—1956), по некоторым сведениям какое-то время содержались в Чистопольской тюрьме в 1945-1946 годах. Самого Юрия и его сестру Наталью поместили сначала в Чернобыльский детский дом, потом перевели в Донецкий детский дом, откуда ему вскоре удалось бежать и вернуться в родные места.
В 1948 году он вернулся в Донецк, чтобы забрать сестру, но был арестован. В 1949 году суд приговорил его к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Срок отбывал в Дубравлаге (особый лагерь №3, Мордовская АССР). На момент ареста Юрию еще не исполнилось 16 лет.
В 1950 году Юрия Шухевича этапировали на Западную Украину для опознания тела отца, убитого спецотрядом МГБ 5 марта того же года. Планировал операцию по убийству отца Юрия — Романа Шухевича, другой будущий узник Чистопольской тюрьмы — Павел Судоплатов. В 1954 году Юрий Шухевич был освобождён по послесталинской амнистии, но в том же году был вновь арестован и отправлен обратно в тюрьму.
В 1958 году суд продлил Шухевичу заключение ещё на 10 лет. Свой второй срок он отбывал в тех же мордовских лагерях. Освободившись в 1968 году, Шухевич был вынужден уехать жить в Нальчик, так как в течение 5 лет ему запрещалось жить на Украине. Работал электриком. Написал антисоветскую брошюру, которая была найдена во время очередного обыска его квартиры.
Вновь был арестован 20 марта 1972, обвинен по ст.70 ч.2 УК РСФСР (»Антисоветская агитация и пропаганда») и приговорен к 10 годам тюремного заключения и 5 годам ссылки. Одновременно был признан особо-опасным рецидивистом, что определило режим содержания- особый.
Через год, в 1973, уже после вступления приговора в силу, Юрий Шухевич был обвинен в попытке передачи на свободу своих мемуаров. За это он был опять приговорен к 10 годам тюремного заключения (особый режим) и 5 годам ссылки с поглощением неотбытой части наказания по предыдущему приговору. Наказание отбывал во Владимирской тюрьме. В 1979 году переведен в Чистополь.
В тюрьме Юрий Шухевич ослеп — катаракта на обоих глазах и отслоение сетчатки. Операция, проведенная в Ленинградской центральной больнице для заключенных им. д-ра Гааза оказалась неуспешной.
Срок тюремного заключения по этому новому приговору окончился в марте 1983. Тогда Юрий Шухевич и был отправлен в ссылку. Его, фактически слепого, поместили в инвалидный дом с чудным названием — «Лесная дача» в поселке Оськино, Томская область.
Лишь в октябре 1989 года ему удалось вернуться во Львов. Срок, который Юрий Романович Шухевич провел в заключении, составляет 31 год.
Несмотря на плохое здоровье, Юрий Шухевич сразу же стал заниматься политикой. При его активном участии 30 июля 1990 года была создана Украинская межпартийная ассамблея (УМА), в состав которой вошли несколько правых партий и общественных организаций.
Скончался 22 ноября 2022 года, находясь на лечении в Германии.
Ещё один из тех чистопольских сидельцев, кто так же, как и Юрий Шухевич, отбывал заключение за преступления, совершенные своими родственниками — КЛИМЧАК БОГДАН СТЕПАНОВИЧ.
Родился 22 июля 1937 года в местечке Себечев, Львовское воеводство, Польша. В течение двух лет учился в местной начальной школе.
20 мая 1946 г. был вывезен вместе с семьей в Тернопольскую область в рамках соглашения об «эвакуации» украинцев из Польши в УССР и польских граждан из УССР в Польшу, подписанного 9 сентября 1944 года председателем Польского комитета национального освобождения Эдвардом Осубкой-Моравским и председателем Совета Народных Комиссаров УССР Никитой Хрущевым. Родное село Богдана и другие села, принадлежавшие к Забужскому району отошли к Польше, а жители были вывезены в «вагонах-телятниках» и расселены в соседние области. Семья поселилась в селе Гримайлов Гусятинского района Тернопольской области
Осенью 1946 г. Богдан повторно пошел во 2 класс начальной школы. В 1949 года. Двенадцатилетний Богдан вместе с матерью и двумя сестрами, как семья члена ОУН, (старший брат Мирон был приговорен к 25 годам лагерей за сотрудничество с ОУН) в течение месяца находились в пересыльной тюрьме города Копычинцы Тернопольской области. Затем из пересыльной тюрьмы семья была этапирована на спецпоселение в Хабаровский край, поселок «Ударный».
В 1953-1957 гг. учился в Магаданском горном техникуме.
Впервые за решетку попал в 20 лет-на следующий день после окончания учебы в техникуме. За антисоветские высказывания приговорен Магаданским облсудом 10.09.1957 года по статье печально знаменитой статье 58-10 ч. 1 к 5 годам ИТЛ. Наказание отбывал в Магаданской области, на Тайшетской трассе в Иркутской области, в Мордовии. 15 июня 1962 года был освобожден. После освобождения закончил среднее техническое образование, работал электромонтером «Львовэнергоремонта».
С 1962 по 1978 гг. находился под постоянным наблюдением КГБ. Попытался бежать через территорию Ирана на Запад с целью просить политическое убежище. Перешел советско-иранскую границу в районе станции Такыр (Туркменистан), однако через 9 дней, 1 октября 1978 года его принудительно вернули в Советский Союз.
18 июня 1979 г. был во второй раз осужден Львовским областным судом по ст. 62 ч. 1 УК УССР и ст. 62 ч. 1 УК Туркменской ССР («антисоветская агитация и пропаганда», «измена Родины») к 15 годам лагерей строгого режима и 5 годам ссылки. Наказание отбывал в пермских лагерях ВС-389/36 и 35. За 12 лет заключения в лагерях провел 590 суток в ШИЗО (штрафной изолятор), 10 мес. в ПКТ (помещение камерного типа —лагерная тюрьма). В 1981-1984 гг. находился в спец. тюрьме города Чистополь. Его соседом по камере какое-то время был Сергей Адамович Ковалев, будущий Уполномоченный по правам заключенных в Российской Федерации.
Всего Богдан Климчак отбыл за решеткой 17 лет и 40 дней. Кроме этого, еще восемь лет-на спецпоселении. И только в 1990-м постановлением Президиума Верховного Совета УССР осуждение Климчака по политическим статьям признали безосновательным, а его действия переквалифицировали в незаконный переход границы без антисоветской цели, за который предусмотрено три года лишения свободы
Получив свободу, Богдан Климчак демонстративно отказался от советского паспорта, отказался Климчак и от написания Заявления о реабилитации. В 1999 году вышел из Общества политзаключенных и репрессированных.
После освобождения некоторое время жил в Киеве, Тернополе, Львове.
Умер 21 июня 2018 года.
Еще один политзаключенный, находящийся в одной камере с Юрием Шухевичем на особом режиме в Чистопольской тюрьме и упомянутый в «Вестях из СССР» — ФЕДОР ФИЛИППОВИЧ ТРУФАНОВ.
Тут есть неточность. На самом деле Федор Труфанов, 1919 года рождения — рецидивист со стажем — десять судимостей. Из них только две последние по политическим статьям — 02.08.1940 года Верховным судом Грузинской ССР по ст.58-10 и 58-11 УК РСФСР, и 28 ноября 1972 года Свердловским облсудом по статье 70 ч.2 УК РСФСР. Приговор — 10 лет тюремного заключения, с присоединением части неотбытого срока, и пять лет ссылки, всего 15 лет. Срок отбывал во Владимирской и Чистопольской тюрьмах. Так нередко бывало, среди уголовников бытовало мнение, что у осужденных по политическим статьям всегда лучше условия содержания (ну-ну…), поэтому они, находясь в заключении, начинали писать письма, содержащие политические требования, и получали новый срок, уже по политической статье. Это относится и к Федору Труфанову.
Так, что там дальше в «Вестях…» от 17 сентября 1980 года? «2-я камера: М. Казачков (с начала июня начал голодовку в знак протеста против того, что его жалобы не отправляются; помещен в одиночку).
О Михаиле Казачкове я уже писал ранее, не буду повторяться. Здесь же скажу, что голодовку заключенные начинали, написав заявление на имя начальника тюрьмы. В заявлении содержались требования заключенного, характер (могла быть и сухая, самая страшная), срок и причина начала голодовки. Объявившего голодовку обязаны поместить либо в камеру с такими же голодающими, либо в одиночку, что, кстати, не всегда выполнялось. Анатолий Марченко, находясь в Чистопольской тюрьме, 4 августа 1986 года объявил бессрочную голодовку, требуя выпустить всех политических заключенных. Он смог продержаться 117 дней. Умер 8 декабря 1986 года.
В конце каждого месяца руководство тюрьмы составляло рапорт, в котором указывалось количество голодающих. Потом начиналась прокурорская проверка, потом «разбор полетов» — почему допустил. Короче говоря, голодовки в тюрьмах, конечно, не поощрялись, но именно поэтому они являлись почти единственным способом добиваться соблюдения прав заключенных в советских тюрьмах.
В тех же «Вестях»… упомянуты И. Огурцов, Б. Лизюнас, В. Балахонов, В. Константиновский (осужден за шпионаж, обвинение не фальсифицировано), сидящие на строгом режиме в камере №1, а также Ю. Богин, Юрьев, Ивлюшкин, Богачев (все четверо за шпионаж в армии, обвинение, по-видимому, не фальсифицировано). Эти были помещены в камеру №3
О Игоре Огурцове, Владимире Балахонове и Владимире Богачеве я тоже писал, а вот Богин, Юрьев, Ивлюшкин, и Константиновский, осужденные за шпионаж, представляют интерес.
НИКОЛАЙ ИВЛЮШКИН, АНДРЕЙ БОГИН и АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВ, вместе служившие в одной из частей Ракетных войск стратегического назначения в Винницкой области. Арестованы 27.12.1978 в г. Винница УССР. Решили продать секреты, известные рядовым военнослужащим СА. Обвинены в шпионаже в пользу неустановленного государства. Содержались в Лефортовской тюрьме. Приговорены 08.08.1979 военным трибуналом (военнослужащие все же) в/ч 16666 по статье 56 ч. 1 УК УССР к 6 годам лишения свободы, из которых первые 2 года — в тюрьме. В сентябре 1979 — декабре 1980 содержались в Чистопольской тюрьме ТАССР, в январе 1981- январе 1983 — в ИТЛ строгого режима «Пермь-35. 36, 37. Николая Ивлюшкина за неоднократные нарушения лагерного режима вновь перевели в Чистополь (февраль 1983 — декабрь 1984). Мало того, 4 сентября 1984 года, уже в Чистополе Николай Ивлюшкин обвинен «в злостном неповиновении законным требованиям администрации и противодействию воспитательному процессу» и приговорен Чистопольским облсудом по статье 188-3 ч. 2 УК РСФСР к 2 годам и 10 мес. заключения. Содержался в ИТЛ строгого режима Архангельской области (лесоповал). Освобожден 25.02.1986 по отбытии срока. После освобождения жил во Владимире, работал на тракторном заводе. С 1987 жил в Москве, работал на Чугунолитейном заводе им. Войкова.
КОНСТАНТИНОВСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ. Родился 13 февраля 1942 года в селе Николаевка Буденновского района Приморского края. Образование высшее. Радиоинженер. Служил в Армии.
Осужден 26 февраля 1975 г. по статьям 64 п. «а» — «Измена Родине», 93-1 — «Хищение государственного или общественного имущества в особо крупных размерах» УК РСФСР. Приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, 5 лет ИТЛ, плюс 5 лет ссылки, с конфискацией имущества.
Особая пометка на учетной карточке: «ас» — антисоветская агитация.
Заключение отбывал в тюрьме г. Владимир, в лагерях Пермь-35 и Пермь-37.
В 1980 г. переводился на тюремный режим в тюрьму г. Чистополь Татарской АССР.
Принимал участия в акциях защиты прав заключенных: забастовках, голодовках, в тюрьме не раз помещался в карцер, в лагере – в ПКТ
На основании Указа ПВС СССР от 18 июня 1987 г. «Об амнистии в связи с 70-летием Великой Октябрьской Социалистической революции» неотбытый срок сокращен наполовину.
По отбытии заключения 21 декабря 1987 года этапирован в ссылку в Коми АССР.
ГАЙДУК РОМАН ВАСИЛЬЕВИЧ. Родился 2 ноября 1937 года в Республике Польша, город Черновцы. (Не удивляйтесь, западно-украинские земли СССР получил только после второй мировой войны в результате передела Польши и Германии). Украинец. Образование высшее. Работал товароведом Черновицкого отделения Ивано-Франковского строительного управления № 53.
Арестован 23 марта 1974 года за распространение самиздатовской литературы. Осужден 15 августа 1974 года по статье 62 ч. 1 — «Антисоветская агитация и пропаганда» УК УССР к 5 годам лишения свободы и ссылке на 3 года.
Заключение отбывал в лагере Пермь-36. Принимал активное участие в правозащитных акциях заключенных – в забастовках и голодовках. Соответственно получал и ШИЗО и ПКТ.
За систематическое нарушение лагерного режима 19 января 1976 года этапирован в тюрьму № 2 г. Владимир. Через год переведен в Чистопольскую тюрьму. Возвращен в лагерь 23 декабря 1978 года. 15 марта 1979 г. этапирован в ссылку в Чунский район Иркутской области. Освобожден в ноябре 1981 года.
БУТЧЕНКО ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Родился 16 января 1949 года в городе Новокузнецк Кемеровской области. Русский. Образование среднее. Звукооператор музыкального ансамбля «Эльфас» в Новокузнецке.
Арестован 20 августа 1974 года за передачу консулу США в Ленинграде правозащитной информации. Осужден 22 января 1975 г. по статьям 94- «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», 88 ч.1 — «Нарушение правил о валютных операциях», 15-64 «а» — «Ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление» — «Измена Родине» УК РСФСР к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Заключение отбывал в лагерях Пермь-35 и Пермь-37. Участвовал в правозащитных акциях заключенных: забастовках, голодовках, наказывался лишением ларька, водворением в ШИЗО и переводом в ПКТ.
В мае 1981 г. переведен на тюремный режим в Чистопольскую тюрьму. Освободился в августе 1982 г был поставлен под надзор по месту жительства в Новокузнецке. 6 июня 1983 г. был арестован и 22 июля осужден ст.198-2 – «Злостное нарушение правил административного надзора» УК РСФСР к лишению свободы на 1 год, с содержанием в ИТК строгого режима.
#нашчистополь #экскурсиипочистополю #чистопольскаятюрьма #музейполитическихрепрессий
Не следует считать себя неуязвимым, надежно защищённым от какого-либо несчастья…
Сегодня я расскажу о человеке, который не побоялся пойти против системы, навязывающей гражданам страны единое мнение, единый взгляд на события, единый порядок жизни, сформированный в геронтологических недрах Политбюро КПСС. Более того, являясь дипломированным врачом, этот человек принял решение рассказать всему миру о методах применения психиатрии для узаконенной экзекуции тех, кто посмел мыслить инако, о тех кто поставил целую отрасль медицины на службу всемогущего Комитета. Этот человек провел в Чистопольской тюрьме три года, лауреат многочисленных международных наград и премий, дважды выдвигавшийся на Нобелевскую премию мира (1986, 1987 годы), персональный почётный член Всемирной психиатрической ассоциации за «проявление в борьбе с извращённым использованием психиатрии в немедицинских целях, профессиональной сознательности, мужества и преданности долгу — всё в исключительной мере».
КОРЯГИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ.
Родился 15 сентября 1938 года в Канске, Красноярский край. Отец — служащий лесокомбината, мать — рабочая. Отец погиб на войне в 1942 году, мать осталась с тремя детьми. Детство Анатолий Корягин провел, впрочем, как и большинство его сверстников, в большой бедности. Закончил Красноярский медицинский институт. Кандидат медицинских наук. Врач-психиатр Харьковского областного психоневрологического диспансера. Врач-консультант Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях с 1979 года.
Как говорил сам Корягин, ещё в Кызыле, в начале своей медицинской практики, он столкнулся со случаем явного злоупотребления, когда по воле вышестоящего руководства человеку поставили неверный диагноз психического заболевания. В целях выявления и обнародования сведений о случаях злоупотребления психиатрией и оказания помощи жертвам психиатрических репрессий, Корягин счёл своим долгом принять участие в работе Комиссии по расследованию, разыскал её членов и предложил свои услуги как специалиста.
Корягиным и другим врачом-консультантом Комиссии, Александром Волошановичем, были освидетельствованы 55 диссидентов, которых освободили из психиатрических больниц или собирались поместить в них недобровольно. Корягин и Волошанович пришли к выводу, что изоляция этих людей не имела медицинских показаний, и начали кампанию за освобождение диссидентов, содержащихся в психиатрических больницах. Итоги работы Корягина, тщательно задокументированные, легли в основу статьи «Пациенты поневоле», опубликованной в журнале «Посев», выпускаемым в Германии, сыгравшей в 1981 году решающую роль в международном осуждении советских политических злоупотреблений психиатрией.
Незадолго до ареста Анатолий Корягин написал «Открытое заявление»: «В случае моего ареста и возбуждения против меня следствия по любой из статей УК прошу опубликовать следующее мое заявление: Уголовно наказуемых деяний я не совершал. Свой арест и возбуждение против меня уголовного дела я расцениваю как очередной акт в логической цепи преследований со стороны властей, которым меня подвергают из мести за участие в работе «Комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях» в качестве врача-консультанта. Диагностика психических болезней, которой я как врач занимался, — моя профессиональная обязанность и может быть предметом обсуждения только для компетентных в ней профессионалов, но не для представителей от КГБ, Прокуратуры, суда. Результаты организуемого надо мной следствия и суда заранее предрешены. Я отказываюсь принимать в них какое-либо участие, поскольку рассматриваю их как пример вопиющего беззакония, каким всегда является преследование, облеченное в форму юридической акции».
В феврале 1981 года после того, как Анатолий Корягин провёл экспертизу борца за права рабочих Алексея Никитина, признал его здоровым и передал своё заключение иностранным корреспондентам, он был арестован. Суд над Анатолием Корягиным состоялся в Харькове 3-5 июня 1981. Иностранным корреспондентам, пожелавшим присутствовать на суде, въезд в Харьков не был разрешен. Из близких обвиняемого в зал была допущена только его жена. Обвинялся по статьям 62 и 22 УК УССР (аналоги статьям 70 и 218 УК РСФСР, ст.222 – “незаконное хранение оружия”). По ст.222 охотник Корягин обвинялся в хранении охотничьего гладкоствольного ружья. По ст.62 Корягин обвинялся в хранении книги Д.Дудко “О нашем уповании” и собственной рукописи “Размышления о “Бесах” Достоевского”, в публикации статьи “Пациенты поневоле” в журнале “Посев”, в “антисоветских” высказываниях в письмах знакомым за рубежом и родственникам и в “устной пропаганде”. Главным свидетелем по последнему пункту обвинения выступал врач Запорожской психбольницы — Корягин в свое время добился освобождения из этой ПБ своего знакомого психиатра, помещенного в ПБ без должных оснований, при этом он сделал ряд резких замечаний, осуждающих практику помещения в ПБ здоровых людей.
Суд удовлетворил просьбу прокурора и приговорил Анатолия Корягина к 7 годам лагерей строгого режима и 5 годам ссылки.
Срок отбывал в Пермских лагерях «Пермь-35, 36». За оказание медицинской помощи больным и многочисленные нарушения лагерного режима помещался в ШИЗО и ПКТ, в 1982 году переведен в тюрьму г. Чистополь ТАССР. Активный участник акций защиты прав заключенных: обращения, письма, забастовки, голодовки, за что лишался свиданий, помещался в карцер, переводился на строгий режим. 30 января 1985 года осужден Чистопольским городским судом по статьям 191 и 206 ч.2 УК РСФСР («сопротивление представителю власти», «хулиганство») на 2 года с присоединением к неотбытому сроку.
В феврале 1987 года по требованию международной общественности освобожден без всяких условий. В том же году, дождавшись освобождения сына из заключения, эмигрировал в Швейцарию. На созванной после выезда пресс-конференции Корягин сообщил о 183 известных ему жертвах психиатрических репрессий в Советском Союзе и о 16 психиатрических больницах специального типа для диссидентов. В 1995 году вернулся в Россию.
ЕЛЬЧИН ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ. Родился 9 августа 1940-го года на руднике Пильная Читинской области. В июле 1962 года В.А. Ельчин поступил на отделение заочного обучения факультета искусствоведения Уральского государственного университета имени А.М. Горького. Вместе с приятелем Львом Шефнером написали трактат о правильном переустройстве общества. Трактат попал в Комитет. Арестован 22 января 1963 г. и осужден 18 апреля 1963 г. по статьям 70 ч. 1 — «Антисоветская агитация и пропаганда» и 72 — «Организационная деятельность, направленная к совершению особо опасных государственных преступлений, а равно участие в антисоветской организации» УК РСФСР. Приговорен к лишению свободы на 2 года лагерей. Срок отбывал в Читинской области, в БАМлаге (а вы думали, что знаменитый БАМ только комсомольцы строили?) После освобождения работал электромехаником Свердловского завода по ремонту медицинской техники. Затем, в 1973 году, поступил в Уральскую консерваторию по классу вокала. Солист Свердловской госфилармонии. Все это время его дружба с Левой Шефнером продолжалась. Они начали вместе распространять самиздат в Свердловске.
Вновь арестован 25 августа 1981 года. Инкриминировалось создание фонотеки записей передач радиостанций «Немецкая волна» и «Голос Америки», написание «антисоветских» статей, распространение книг и журналов по истории Израиля. Осужден 7 апреля 1982 г. по статье 70 ч. 1 — «Антисоветская агитация и пропаганда» УК РСФСР к лишению свободы на 5 лет. Заключение отбывал в лагере Пермь-36. Принимал участие в правозащитных акциях политзаключенных. 3 октября 1983 г. этапирован на тюремный режим в Чистопольскую тюрьму. В Чистополе в одной камере с Ельциным оказался Михаил Рифкин, который оставил немало интересных сведений о своих соседях и о порядках Чистопольской «крытки» в опубликованных воспоминаниях.
«Володя Ельчин был человек богатырского телосложения, весьма сдержанный и немногословный, настоящий сибиряк. Володя немного выучил иврит и очень неплохо знал еврейскую историю. С гордостью называл себя сионистом, притом что был он русским и никаких еврейских предков у него не было. Мы с Ельчиным сразу подружились. Он много рассказывал мне о своих родителях, о друзьях, много и интересно рассказывал об оперных исполнителях и о композиторах. Классическую музыку, особенно оперу, знал великолепно. Ельчин рассказал мне, кто тогда сидел в Чистополе, у кого какое дело, и, главное, объяснил, «кто есть кто», чего можно ожидать от того или иного заключенного и как с ним себя вести. О Владимире Ельчине у меня сохранились самые добрые воспоминания».
Освобожден в 1986 году по окончанию срока наказания.
В Чистопольской тюрьме в 80-е содержались несколько украинцев (не забывайте, что в советском паспорте была «пятая графа» — национальность) , организаторов и участников Украинской Хельсинской группы. Вот их имена.
КАЛИНИЧЕНКО ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. Родился 31 января 1938 года в поселке Васильевка Васильевского района Днепропетровской области УССР. Украинец. Образование высшее. Старший инженер Всесоюзного проектно-технического института энергетического машиностроения г. Ленинград.
Находился под арестом и следствием в 1964 -1965 годах по доносу о намерении бежать за границу.
Повторно арестован 20 июля 1966 года при попытке перехода границы в Мурманской области. Осужден 12 января 1967 года по статье 64 п. «а» — «Ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление» — «Измена Родине» УК РСФСР к лишению свободы на 10 лет.
Заключение отбывал в Мордовских политлагерях, в лагерях Пермь-35 и Пермь-36. Принимал участие в правозащитных акциях заключенных.
Освобожден 19 марта 1976 года по отбытию срока заключения. После освобождения жил под административным надзором в пос. Васильковка.
В октябре 1977 года вступил в Украинскую Хельсинскую группе. 20 ноября 1979 года арестован в третий раз. Осужден Днепропетровским областным судом по статье 62 — 2 УК УССР (антисоветская агитация и пропаганда). Приговор — 10 лет лагерей, 5 лет ссылки. Как рецидивист, первые три года отбывал в Чистопольской тюрьме. Затем были Мордовский Дубравлаг и Пермь-36, 37.
Помилован указом ПВС УССР в апреле 1988 года.
МАТУСЕВИЧ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ. Родился 19 июля 1946 года в селе Матюши Белоцерковского района Киевской области. Украинец. Образование незаконченной высшее. Литературный редактор Киевского областного Дома санитарного просвещения.
Один из организаторов Украинской Хельсинкской группы. 9 марта 1977 года на вечере памяти Тараса Шевченко в Киевской филармонии, Матусевич вместе с Мирославом Мариновичем, преодолев сопротивление организаторов вечера, поднялись на сцену и призвали аудиторию спеть «Завещание» поэта.
Арестован 23 апреля 1977 г. и осужден 29 марта 1978 года по статьям 62 ч. 1 — «Антисоветская агитация и пропаганда», 70 ч. 1 — «Антисоветская агитация и пропаганда» 206 ч. 2 — «Злостное хулиганство» УК УССР к лишению свободы на 7 лет и ссылке на 5 лет.
Николаю Матусевичу вменялось в вину то, что он вместе со своим другом Мирославом Мариновичем, «познакомившись в ноябре 1976 года с писателем-диссидентом, бывшим политзаключенным, одним из организаторов и первым председателем «Украинской Хельсинкской группы», Михаилом Руденко, обсуждали тексты «Декларации содействия выполнению Хельсинских соглашений» и «Меморандума № 1» этой группы, после чего одобрили и подписали их, став, таким образом, соавторами и соучастниками в изготовлении этих антисоветских документов; размножение и распространение этих текстов; участие в составлении Меморандумов группы № 2 – 6 и их распространение; распространение других документов и текстов правозащитного самиздата; «антисоветские разговоры» в 1969 – 1975 годах».
Заключение отбывал в лагере Пермь-35. За активное участие в правозащитных акциях заключенных – писал и подписывал письма, обращения, заявления, участвовал в забастовках и голодовках, многократно водворялся в ШИЗО, ПКТ, лишался свиданий.
25 сентября 1980 года этапирован в тюрьму № 4 г. Чистополь Татарской АССР на 3 года тюремного режима.
Этапирован в ссылку в Читинскую область 12 апреля 1984 г.
Помилован Указом ПВС УССР в 1988 году.
Да, всего три ступеньки отделяют нас от той поры, когда счастье по утрам вливалось в нашу комнату вместе с с солнечными лучами, когда день был длинным, как вечность, когда самой большой бедой была потасовка из-за красного совочка с Колькой из соседней песочницы и когда казалось, что эта счастливая жизнь не закончится никогда.
Сегодня у вас у всех есть возможность вновь, пусть ненадолго, пусть на время, вернуться туда, в свое безоблачное детство. Вам надо всего лишь дойти до дома по Володарского, 75 (догадайтесь, где это!), отворить тяжелую деревянную калитку, повернуть направо к двери, ведущей в полуподвальные комнаты старинного особняка, дальше две ступеньки вниз, направо, еще одна дверь и еще одна ступенька — и вы на выставке «В гостях у детства». Не буду вам рассказывать о количестве кукол, о тех странах, из которых они приехали, о их видах и об особенностях их изготовления, о том труде, поистине титаническом, без которого невозможно было восстановление и самих кукол, и их удивительных нарядов, обо всем этом вам гораздо лучше меня расскажет хозяйка выставки — сотрудник музея Пастернака Наиля Альбертовна Белоглазова. Скажу лишь, что меня удивили ее слова о том, что мир кукол для подрастающих детей, был школой их будущей жизни. Я об этом никогда не задумывался, мальчики ведь такие рационалисты! К тому же у меня были не куклы, а всевозможные конструкторы — поначалу пластмассовые с огромными разноцветными гайками и болтами, которыми надо было свинчивать разные детали, потом посложнее, уже с металлическими планочками разной длины, болтиками, винтиками и гаечками, колесиками, осями и платформочками, из которых получались чудесные подъемные краны с настоящим маленьким крюком на веревочке. (Моя внучка сегодня играет таким. К чему бы это?). Потом стали появляться наборы, из которых можно было собрать и подзорную трубу, тогда я впервые увидел кратеры на Луне, и микроскоп. Можно было положить на предметное стеклышко тоненькую пленочку лука, и перед тобой открывался удивительный мир живых клеток. Но, мои дети, мои девочки — у них-то были именно куклы. Были наборы врача, парикмахера, детские музыкальные инструменты (мой приятель, а наши дети играли вместе, однажды, глядя на меня сказал, что прибьет на месте того, кто подарит его ребенку барабан), машинки и дорожные знаки. Потом появились наборы для путешествий и пикников — о, этот мир Барби! А помните альбомчики с куклой и нарядами, которые надо было аккуратно, чтобы не отрезать полоски, на которых эта одежда будет держаться, вырезать, а затем устроить настоящий бал-маскарад. Потом бумажная кукла сменились пластиковой магнитной фигуркой, а такая же пластиковая одежда обрела многочисленные дополнения в виде модной обуви, всевозможных шляпок, перчаток и ярких очков. Сколько же будущих швей, модельеров, парикмахеров, (стилистов по-современному), строителей, астрономов, докторов и учителей прошли эту детскую школу. Навыки общения в коллективе (социализация, теперь говорят), навыки обращения с ребенком, с родителями — это все оттуда, из наших детских игр.
Не буду долго рассказывать о выставке, лучше покажу несколько фотографий.
Детство мое постой, не спеши уходить,
Дай мне ответ простой. что там, впереди?
Ты, погоди, погоди уходить навсегда,
Ты, приводи, приводи, приводи нас сюда, иногда…
#нашчистополь #экскурсиипочистополю #чистопольскаятюрьма #музейполитическихрепрессий
Не следует считать себя неуязвимым, надежно защищённым от какого-либо несчастья…
Вновь продолжаю печальный мартиролог о «узниках совести», политических заключенных Чистопольской тюрьмы в 80-х годах.
ЕЛЬЧИН ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ. Родился 9 августа 1940-го года на руднике Пильная Читинской области. В июле 1962 года В.А. Ельчин поступил на отделение заочного обучения факультета искусствоведения Уральского государственного университета. Вместе с приятелем Львом Шефнером написали трактат о правильном переустройстве общества. Трактат попал в Комитет. Арестован 22 января 1963 года и осужден 18 апреля 1963 года по статьям 70 ч. 1 — «Антисоветская агитация и пропаганда» и 72 — «Организационная деятельность, направленная к совершению особо опасных государственных преступлений, а равно участие в антисоветской организации» УК РСФСР. Приговорен к лишению свободы на 2 года лагерей. Срок отбывал в Читинской области, в БАМлаге (а вы думали, что знаменитый БАМ только комсомольцы строили?) После освобождения работал электромехаником Свердловского завода по ремонту медицинской техники. Затем, в 1973 году, поступил в Уральскую консерваторию по классу вокала. Солист Свердловской госфилармонии. Все это время его дружба с Левой Шефнером продолжалась. Они начали вместе распространять самиздат в Свердловске.
Вновь арестован 25 августа 1981 года. Инкриминировалось создание фонотеки записей передач радиостанций «Немецкая волна» и «Голос Америки», написание «антисоветских» статей, распространение книг и журналов по истории Израиля. Осужден 7 апреля 1982 года по ст. 70 ч. 1 — «Антисоветская агитация и пропаганда» УК РСФСР к лишению свободы на 5 лет. Заключение отбывал в лагере Пермь-36. Принимал участие в правозащитных акциях политзаключенных. 3 октября 1983 г. этапирован на тюремный режим в Чистопольскую тюрьму. В Чистополе в одной камере с Ельциным оказался Михаил Рифкин, который оставил немало интересных сведений о своих соседях и о порядках Чистопольской «крытки» в опубликованных воспоминаниях.
«Володя Ельчин был человек богатырского телосложения, весьма сдержанный и немногословный, настоящий сибиряк. Володя немного выучил иврит и очень неплохо знал еврейскую историю. С гордостью называл себя сионистом, притом что был он русским и никаких еврейских предков у него не было. Мы с Ельчиным сразу подружились. Он много рассказывал мне о своих родителях, о друзьях, много и интересно рассказывал об оперных исполнителях и о композиторах. Классическую музыку, особенно оперу, знал великолепно. Ельчин рассказал мне, кто тогда сидел в Чистополе, у кого какое дело, и, главное, объяснил, «кто есть кто», чего можно ожидать от того или иного заключенного и как с ним себя вести. О Владимире Ельчине у меня сохранились самые добрые воспоминания».
Освобожден в 1986 году по окончанию срока наказания.
НЕКИПЕЛОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ — русский поэт и публицист, правозащитник, участник диссидентского движения, член Московской Хельсинкской группы.
Родился в китайском городе Харбин 28 сентября 1928 года в семье работников Китайской восточной железной дороги. Переехал с матерью в СССР в 1937 году. В 1939 году мать была арестована и умерла, находясь в заключении.
В 1950 году с отличием окончил Омское военно-медицинское училище. В 1960 году, также с отличием, окончил военно-фармацевтический факультет Харьковского медицинского института. В 1969 году заочно окончил Литературный институт им. Горького. Печатался с 1950 года.
В 1960-е жил на Украине, в Ужгороде и Умани, работал фармацевтом и заведующим аптекой. В Умани Виктор познакомился с Екатериной Львовной Олицкой — бывшей эсеркой, и Надеждой Витальевной Суровцевой — украинской националисткой-коммунисткой. Обе, около 30 лет каждая, провели в тюрьмах и лагерях ГУЛАГа, обе сохранили свои, очень несхожие взгляды. Вокруг них роилась молодежь и немолодежь уманская, киевская и даже московская. В 1966 году в Ужгороде издан сборник стихотворений Некипелова «Между Марсом и Венерой», в дальнейшем печатался в самиздате.
В Умани Виктор Некипелов и его жена Нина Комарова работали на Витаминном заводе. Условия труда там, особенно для рабочих, были тяжелейшими. Виктор вел борьбу за соблюдение элементарных правил техники безопасности, защищая интересы рабочих. Начались систематические конфликты с начальством. Вскоре его уволили с завода. Оформлено увольнение было в духе времени — его лишили звания «ударника коммунистического труда» за неучастие в общественной жизни. Вслед за этим в личное дело ему внесли выговор за неучастие в первомайской демонстрации, после чего и последовал приказ об увольнении.
В августе 1968 году вместе с женой изготовил и разбросал в Умани листовки, в которых высказывался протест против ввода войск в Чехословакию. Начал общаться с московскими и украинскими правозащитниками, что привлекло к нему внимание КГБ.
В 1970—1973 годах был заведующим аптеками в городе Солнечногорске (Московская область), затем в Камешково (Владимирская область). Подвергался постоянным обыскам и допросам.
В июле 1973 года арестован. В мае 1974 года осуждён Владимирским областным судом по статье 190.1 УК РСФСР и приговорен к 2 годам заключения за распространение антисоветских материалов, в том числе «Хроники текущих событий» и собственных стихов. Во время следствия был направлен на судебно-психиатрическую экспертизу во Владимир, где было вынесено заключение о возможном наличии у него вялотекущей шизофрении, затем — в Институт Сербского, где находился с 15 января по 15 марта 1974 года и был признан психически здоровым. Год пробыл в колонии общего режима под г. Владимиром. Освободился в июле 1975 года, вернулся в Камешково, работал врачом-лаборантом.
После ареста и особенно после освобождения многие его произведения были опубликованы в русских зарубежных издательствах, некоторые работы читались в передачах западного радио. В 1975—1979 годах был очень активным участником правозащитного движения. Подписал множество правозащитных документов, стал известным автором самиздата. О своём пребывании на экспертизе в Институте Сербского рассказал в книге «Институт дураков» (1976), в соавторстве с Александром Подрабинеком написал книгу «Из желтого безмолвия» (1975) о карательной психиатрии в СССР. Автор очерков «Опричнина», «Кладбище побежденных», «Сталин на ветровом стекле». Тексты Некипелова публиковались в эмигрантском журнале «Континент», в московском самиздатском журнале «Поиски».
В 1977 году принят в члены французского отделения ПЕН-клуба. Член Московской Хельсинкской группы с того же года, активно участвовал в её работе. Помогал многим обращавшимся к нему людям, в том числе рабочим, инвалидам. Участник создания Группы по защите прав инвалидов в СССР.
В марте 1977 года подал заявление о выезде из СССР, ответа на которое от властей не получил, в ответ подал заявление с отказом от советского гражданства. Свыше двух лет продолжал борьбу за выезд из Советского Союза, обращаясь по этому поводу в советские и международные инстанции.
Снова арестован в декабре 1979 года. Адвокат отказался защищать Виктора Некипелова до тех пор, пока тот не признает себя виновным, и Некипелова на суде защищал себя сам. Его последними словами на суде было: «Я знаю, суд вынесет мне максимальное наказание, и для меня это означает пожизненное заключение. Возможно, я не увижу больше сидящих здесь в зале, но я хочу, чтобы вы знали — я всегда стоял за правду и буду служить ей, пока жив. Просто иначе не смогу жить». В июне 1980 года приговорён по статье 70, часть 1 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда) к 7 годам лишения свободы в лагере строгого режима и 5 годам ссылки. Срок отбывал в пермских политических лагерях.
В октябре 1982 года Виктора Некипелова и Генриха Алтуняна по решению внутрилагерного суда этапировали из 36-го лагеря в Чистопольскую тюрьму, которая в те времена стала выполнять функции Владимирского централа. Сохранилась записка, которую Виктор выбросил за решетку окна идущего поезда. Она начиналась словами. «Добрый человек..» И дальше просьба отослать письмо семье. Вот текст самой записки.
«Ниночка, Риммочка, наши родные! Марина и Саша!
Мы едем на три года в тюрьму, — туда, где был Сережа (Григорьянц) последний год. Адреса почтового не знаем, — узнайте у Люси. И сразу пишите, телеграфируйте. А мы напишем. Очень беспокоимся отсутствием писем, особенно Генрих. Ну вот и все. Не волнуйтесь, дорогие, все будет хорошо. Крепко целуем вас и детей, любим.
Витя, Генрих.»
В Чистопольской тюрьме сидел в одной камере и с Михаилом Рифкиным, с Владимиром Ельчиным и с азербайджанцем Нуреддином Алиевым. Чрезвычайно вежливый человек, он даже к сокамерникам обращался на «Вы». Из воспоминаний Михаила Рифкина «Два года на Каме». «Молодой, горячий азербайджанец, до предела изголодавшийся, очень страдавший от многолетнего пребывания в четырех стенах, очень тосковавший по родному Азербайджану, находился на грани нервного срыва. Именно Виктор Некипелов спас Алиеву жизнь, или, по крайней мере, очень помог его спасению. Не помню, что было тому причиной да и была ли конкретная причина, но Нуреддин носился по камере все быстрее, изрыгая жуткие проклятия в адрес ментов, чекистов, армян и всех тех, кого он считал своими недругами. Вдруг он метнулся к своему мешку, достал оттуда какую-то длинную тряпку, быстрыми умелыми движениями привязал ее к решетке на окне, встал на тумбочку и завязал узел у себя на шее. В ту же секунду Некипелов рванулся мимо меня к двери и громко забарабанил в нее. Надзиратель открыл почти мгновенно. Наверное, уже наблюдал снаружи, а может, просто стоял рядом. Надзиратель поддержал обмякшее тело Алиева, а Некипелов ослабил петлю. Нуреддина положили на койку, через минуту он закашлялся, с шумом втянул воздух и открыл глаза.»
Виктор Некипелов постоянно участвовал в борьбе политических заключённых за свои права, пересылал на свободу письма протеста, часто подвергался наказаниям — лишение свиданий, задержка писем, строгий режим, карцер. В заключении тяжело заболел. Диагноз: хронический сиалоаденит, склероз сосудов головного мозга, остеохондроз, онкофобия, хронический пиелонефрит… Общее заключение: «трудоспособен, но с ограничением.»
На единственном за 7 лет личном свидании, которое было у Некипеловых в марте 1981 года в 36-й пермской зоне. Виктор рассказал Нине о том,что однажды на допросе следователь сказал ему: «Мы вас выпустим на Запад, но сначала мы сделаем из вас ничто.»
Из воспоминаний жены Виктора Некипелова, Нины Комаровой. «Виктора арестовали в период творческого расцвета. Он писал замечательные стихи и острую обличительную публицистику, обладал прекрасной памятью и чувством юмора, был отзывчив на беду ближнего, бескомпромиссен и тверд в своих действиях, когда считал их правыми. Виктор вышел из недр ГУЛАГа в состоянии выраженной заторможенности: он потерял память. Его эрудиция, способность к общению тоже исчезли. Перед нами был другой, совершенно незнакомый человек. Некогда богатейшая память удерживала лишь какие-то события дочистопольской жизни. Со времен Чистополя она вся оказалась дырявой. Миша Ривкин, сидевший с ним в одной камере в Чистополе и вспоминавший об этом периоде как о лучшем из своей гулаговской жизни, — они много разговаривали с Виктором, Виктор читал ему стихи —прибежал повидать его. Виктор его не узнал. Виктор продолжал жить вне времени и пространства, вне интересов семьи, друзей, равнодушный ко всему, как инопланетянин».
С декабря 1986 года находился в ссылке в посёлке Абан Красноярского края. 20 марта 1987 года был освобождён в рамках горбачёвской кампании по помилованию политзаключённых. Освободившись, сразу же подал заявление о выезде из СССР. В сентябре 1987 года вместе с женой уехал во Францию. Через полтора года во время операции у него обнаружили уже неоперабельный рак. Он умер 1 июля 1989 года в возрасте 60-ти лет. Похоронен на Валантонском кладбище близ Парижа.
«Виктор Некипелов не был общественным деятелем ни по призванию, ни по натуре. Он стал им — по чувству гражданского долга, чувству справедливости, в силу своей честности, доброты, отзывчивости к судьбам других людей». — Из «Открытого заявления в защиту Виктора Некипелова». Декабрь 1979 года.
ОТРЕЧЕНИЕ
«Вот за эту-то кривду не спокаюсь,
Прости, Иверская мати, отрекаюсь!”
М. Цветаева
Развеянный мир о свободе и братстве,
Нет больше иллюзий и ясны пути.
Да, я не хочу больше жить в государстве,
Где правят заплывшие жиром вожди.
Куда ни посмотришь — лишь мрак из оконца,
А руку протянешь — решетка тюрьмы.
Хвастливо зовет себя Городом Солнца,
На деле является Городом Тьмы.
Где льют день и ночь записные кликуши,
Набитые спесью шуты и ханжи
С дубовых трибун в наши слабые уши
Потоки трескучей, слепительной лжи.
Прикрывшись незыблемым, каменным Марксом,
В испытанном стиле «тяни и толкай»,
Все строят свое вожделенное царство —
Унылый и серый казарменный рай.
В котором ни шагу ступить без прописки,
Без справок чиновных и гнусных анкет,
В котором подписки, отписки, приписки
И тайные списки на тех, что «не след».
Где с детства нас учат холуйству и лести,
Где нынче без взятки не встать и не сесть,
Где вместо былой человеческой чести —
«Партийная совесть! Советская честь!»
Довольно! Обрыдли мне эти довески!
Казённый эпитет, чужой и кривой.
Убей меня Бог, я не анти- советский.
Но и не- советский, я собственно свой!
Не ваш я, ничей я, ни духом, ни телом,
И с детства противна мне всякая масть.
Уверенно знаю: ни красным, ни белым
Меня никакая не сделает власть.
Я быть не хочу на кого-то похожим
И верить в подсунутый кем-то кумир,
Я — сын человеческий, волею Божьей
Заброшен с рожденья не в гетто, а в мир!
Но если уж надо во что бы ни стало
Свершить мне свой выбор, найти свой приют, —
Я буду всегда среди тех, кого мало,
Кого притесняют, неволят и бьют.
Я знаю, что эти нелёгкие строки
Когда-то жестоко припомнятся мне.
Они ведь схитрят, полицей-демагоги.
Что разницы нет между «анти-» и «не-“.
Ну что ж, и к такой приготовлен я доле, —
Не будет оркестров, и роз на венке.
Сначала — возможно, и койка в дурдоме,
А после — фанерная бирка к ноге…
1971
МИНУТНОЕ
Была у нас теплая речка —
Остыла, покрылась ледком.
Была у нас тайная свечка —
Жандармы прошлись сапогом…
Была у нас синяя лодка —
Подбили, пустили на дно.
Была у нас горенка —ловко
Заткали решёткой окно…
Ты плачешь, родная? Не надо!
Откуда им, жалким, понять,
Как стали теперь мы богаты,
Раз нечего больше отнять!
1971
БАЛЛАДА О ПЕРВОМ ОБЫСКЕ
’Но что нам делать с розовой зарей
Над холодеющими небесами.
Где тишина и неземной покой?
Что делать нам с бессмертными стихами?» Николай Гумилев.
Я ожидал их так давно,
Что в час, когда пришли,
Мне стало так же всё равно.
Как лодке на мели.
Я оглядел их сверху вниз —
Процессию теней:
На козьих ножках — тельца крыс
И хоботки свиней.
Они рванулись как на мёд
На давний мой дневник…
Они оставили помёт
На переплётах книг…
Какой-то выхватив альбом,
Захрюкали в углу…
А я стоял, прижавшись лбом
К оконному стеклу.
А я глядел на дальний бор,
На три моих сосны,
Я знал, что всё иное вздор,
Непрошенные сны.
Там, отрицая этот сброд,
Лаская и даря,—
Вставала из раздольных вод
Пурпурная заря.
И в лике пенных облаков,
Прекрасны и тихи,
Текли, не ведая оков,
Бессмертные стихи.
Не зная страха и утрат.
Был лёгок путь в зенит…
Я знал, что этот высший лад
Никто не осквернит.
И, оглянувшись на зверьё,
На разорённый стол
Я как во сне сказал:
«Моё.
Давайте протокол.»
13 июля 1972
ТАИТИ
Какая красная стена
Передо мною.
Какая странная страна
За той стеною.
Я обыскал весь мир земной,
А этот —рядом
Между пельменной и пивной
И летним садом!
О, чи
От сумы, да от тюрьмы… (часть 15)
#нашчистополь #экскурсиипочистополю #чистопольскаятюрьма #музейполитическихрепрессий
Не следует считать себя неуязвимым, надежно защищённым от какого-либо несчастья…
МЕЙЛАНОВ ВАЗИФ СИРАЖУТДИНОВИЧ
О Вазифе Мейланове коротко не скажешь. О его стойкости вспоминали все, кому довелось быть рядом с ним в лагере, или сидеть в одной камере в Чистопольской тюрьме. «Я сделал то, что всегда мечтал сделать. Я устоял против насилия и тем изменил мир…»
Вазиф Мейланов. «Говорю с коммунистами». Чистопольская тюрьма, декабрь 1983 г. – февраль 1984 г.
Он победил потому, что оставался свободным в условиях абсолютной несвободы и показал, как огромная государственная машина насилия, ломается и выходит из строя из-за человека, который отказался ей подчиняться и признавать насилие как аргумент.
Напомню, что диссидентское движение в СССР в 70-80-е годы проходило под очень простым лозунгом: « Мы требуем соблюдения Основного закона страны — Конституции СССР!» Но Вазифу Мейланову этого было мало — он требовал отмены статей уголовного кодекса, которые ограничивают свободу слова — 70 и 190-1. Их он называл «узаконенным беззаконием».
«Уголовный суд над мыслями, над книгами, над плакатами — недействителен. Над книгой возможен только суд книги, суд, на котором судья со своей книгой, такой же ответчик перед мнением человеческим, как и тот, кого он судит».
Эту мысль – о незаконности ареста, суда и наказания за ненасильственную деятельность, чтение и написание книг, плакатов, Вазифу Сиражутдиновичу пришлось защищать и доказывать все 9 лет назначенного ему срока. Во время следствия он отказался подписывать протоколы, чтобы не придавать видимость законности незаконной процедуре, отказался говорить со следователями о мыслях, записях, разговорах между людьми – «чтобы отучить государство вмешиваться в запретную сферу личного». На суде он заявил отвод суду по той причине, что суд является органом и представителем потерпевшей стороны (государства), следовательно, не может быть объективен.
В 87-м, когда заговорили о гласности и перестройке, политическим заключённым предлагали написать заявления, в которых они осуждали свою прежнюю деятельность и обязывались соблюдать советские законы – такие заявления ставились условием досрочного освобождения. Вазиф Мейланов отказался: «Когда бы ни настал день и час моего освобождения, я буду нарушать советские законы – статьи 70 и 190-1 УК РСФСР. Требую исключения их из кодекса». Он и был освобождён одним из последних советских политзаключенных — 25 декабря 1988 года.
Эта неуступчивость, даже в малом, стала причиной того, что к Вазифу Мейланову применялись все существующие в лагерной практике методы принуждения: за отказ от работы его более 500 дней за семь с половиной лет заключения держали в карцерах и ШИЗО, дважды доводили до дистрофии и помещали в лагерную больницу, а после больницы опять переводили в карцер. Продержав в лагере (ИТК-35 в Пермской области) больше года и так и не заставив его приступить к работе, его перевели на три года в Чистопольскую тюрьму, на строгий тюремный режим, и там регулярно сажали в карцер. Из тюрьмы – назад в тот же лагерь на 8 месяцев и ещё раз в ту же Чистопольскую тюрьму, уже до конца срока. В ссылку в Якутию Вазифа Мейланова увозили прямо из тюремного карцера. «Отказывается от работы», «отказывается брать руки за спину», «отказывается пришивать нагрудный знак установленного образца», «допускает антисоветские высказывания», «злостно не желает становиться на путь исправления» — из личного дела з/к Мейланова.
А вот выписка из характеристики осужденного Мейланова за период его пребывания в Чистопольской тюрьме ( с 26 июля 1982 года по 5 июня 1985 года:
«Осуждённый Мейланов В. С. за время отбывания срока наказания на тюремном режиме характеризуется с крайне отрицательной стороны. С первых дней пребывания в учреждении приобщался к общественно-полезному труду на вязке хозяйственных мешков, однако за весь период отбывания срока к работе не приступил, за что неоднократно наказывался в дисциплинарном порядке. Установленный режим содержания и распорядок дня не соблюдает, за что 13 раз наказывался в дисциплинарном порядке, в том числе 6 раз водворялся в карцер.
На проводимые мероприятия политико-воспитательного характера реагирует крайне отрицательно.
Враждебно настроен против политики КПСС и Советского правительства, склонен к написанию жалоб клеветнического содержания. Принимает активное участие в негативных проявлениях отрицательно настроенной части осуждённых. …
Осуждённый Мейланов сознательно не желает становиться на путь исправления».
В Чистопольской тюрьме одно время сидел в одной камере с Анатолием Корягиным. Не ужился, подрались, за что Вазиф Мейланов получил добавочно по ст. 112 УК РСФСР («Умышленное лёгкое телесное повреждение или побои») полгода лишения свободы.
Кто же такой социальный философ, математик, писатель, советский диссидент, политик Вазиф Мейланов?
Родился 15 мая 1940 года в Махачкале. По национальности — лезгин. В 1961 году закончил Физфак МГУ. С 1961 по 1964 годы служил в Советской Армии рядовым. После службы опять поступил в МГУ, на этот раз на мехмат. Там же закончил аспирантуру, опубликовал несколько работ по математике. с 1972 по 1978 — преподавал высшую математику в Дагестанском политехническом институте. В 1972 году написал роман «Мелькнёт тигрицей». Интересный, но достаточно обычный жизненный путь советского интеллигента. Но интеллигент этот оказался думающим.
В 1977 году написал и подписал своим именем философско-политическую работу «Заметки на полях советских газет», посвящённую критике теории коммунизма. В этой работе единственным средством спасения общества Вазиф Мейланов назвал создание в стране структур свободы слова и печати, отмену статей 70 и 190-1 УК РСФСР.
Преподавая в Дагестанском политехе в Махачкале, конфликтовал с администрацией, отказываясь завышать оценки детям высокопоставленных лиц. В 1978 году за «противопоставление себя коллективу и нанесение ущерба коммунистическому воспитанию молодёжи» не был переизбран Ученым советом на должность преподавателя института на новый пятилетний срок.
С 1978 по 1980 года работал бетонщиком 5-го разряда в передвижной механизированной колонне № 10.
25 января 1980 года, на следующий день после опубликования в газете «Известия» материала, посвящённого высылке академика Сахарова в Горький, был арестован за выход на площадь им. Ленина города Махачкалы с плакатом, на котором было написано:
«Протестую против преследования властями А. Сахарова. С идеями должно бороться идеями, а не милицией. Сахаровы нужны народу — они осуществляют истинный, неформальный контроль за действиями государства. Все беды этой страны — из-за отсутствия в ней свободы слова. Боритесь за свободу слова для идейных оппонентов коммунизма — это и будет вашей борьбой за свободу слова!»
2 декабря 1980 года был признан виновным Верховным судом ДАССР по всем трём пунктам обвинения:
— написание и распространение работы «Заметки на полях советских газет»;
— выход на площадь с плакатом;
— распространение книг «Окаянные дни» Ивана Бунина, ( по мотивам этих дневников Никита Сергеевич Михалков в 2014 году снял фильм «Солнечный удар», если кто помнит, и ничего), «Некрополь» Владислава Ходасевича, «Жизнь Сологдина» Дмитрия Панина.
Приговорён к 7 годам колонии и 2 годам ссылки.
14 июля 1988 года, на встрече с польской интеллигенцией М.С. Горбачев сказал: «У нас еще недавно, когда говорили об инакомыслии, то сразу же задавались вопросом: не пора ли с ним покончить?… Инакомыслие — это мотор духовного и научно-технического прогресса» (газета «Правда», 1988, 16 июля). Свобода СМИ будет закреплена в Законе СССР о печати, официально отменявшем цензуру. Этот правовой акт будет принят 12 июня и вступит в силу 1 августа 1990 года. На I съезде народных депутатов СССР (25 мая — 9 июня 1989 года) будет принято решение о внесении изменений и дополнений в закон СССР «Об уголовной ответственности за государственные преступления». Соответственно статья 70 УК РСФСР будет дана в новой редакции, по ней будут наказуемы лишь призывы к «насильственному свержению или изменению советского государственного или общественного строя», а статья 190 будет вообще отменена.
МАРТ НИКЛУС
Март Олаф Никлус родился 22 сентября 1934 в городе Тарту — эстонский правозащитник и политзаключённый СССР, иностранный член Украинской Хельсинской группы. В 1952 году окончил Тартускую среднюю школу, а в 1957 году — биологический факультет Тартуского университета, специализировался в орнитологии.
Марту Никлусу было 15 лет, когда начались массовые депортации эстонского народа, организованные в соответствии с закрытым постановлением Совмина СССР № 390 от 29 января 1949 года. Выселению подверглись более 21000 лиц эстонской национальности. Это и стало спусковым крючком начала сознательного сопротивления Марта Никлуса. Правда, поначалу это имело черты культурной фронды — Никлус вместе с приятелем фотографировал старые разрушающиеся дома, опустевшие колхозы, установки для глушения иностранных радиостанций. Они передавали эти фотографии за границу для публикации. Тогда же Март передал в эстонской редакции радиостанции «Голос Америки» обличительное письмо против «советской действительности». Вместе с несколькими друзьями-студентами требовал признать незаконность присоединения Эстонии к СССР, рассекретить секретные приложения к пакту Молотова-Риббентроппа, вывести советские войска из Эстонии. Расклеивал листовки и организовывал тайные собрания.
21 августа 1958 года Никлус был арестован. 15 января 1959 — Верховный Суд Эстонской ССР приговорил Никлуса по печально знаменитым статьям 58-4 («помощь международной буржуазии») и 58-10 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы и 3 годам ссылки. Срок отбывал в политических лагерях Мордовской АССР (Дубравлаг) и Владимирской тюрьме.
В 1966 году Верховный Суд ЭССР сократил срок приговора до 7 лет, а 30 июля его освободили.
Вернулся в Тарту. В работе по специальности ему было отказано. Работал шофёром, диспетчером автопарка, органистом в лютеранской церкви. С 1968 года преподавал английский, французский и немецкий на курсах иностранных языков, благо. времени для их изучения у Марта Никлуса было много. Интересно, что пособием для изучения английского языка служило англоязычное издание устава КПСС, случайно оказавшееся в библиотеке Владимирской тюрьмы.
Продолжал участвовать в движении сопротивления. Был хорошо знаком с московскими диссидентами. Передавал информацию о событиях в Эстонии и национальном самиздате для «Хроники текущих событий».
Перевел на эстонский язык Всеобщую декларацию прав человека ООН. В 1974 году написал краткие воспоминания о своем деле («Автобиография»), которые распространялись через самиздат.
В 1977—1980 годах подписал ряд коллективных обращений: «Балтийский меморандум» о незаконности присоединения Эстонии к СССР, Петицию против вторжения советских войск в Афганистан, обращение против высылки в Горький академика Андрея Сахарова .
В апреле 1980-го вновь арестован. Март Никлус обвинялся по статье 68 ч.11, (аналог статьи 70 ч.1 УК РСФСР). В вину ставилось написание и распространение «антисоветских заявлений и статей», в том числе заявления о пакте Молотов-Риббентроп, в прослушивании вместе с учениками «Голоса Америки» и в «антисоветских» телефонных разговорах, а также в «устной пропаганде» и в «клевете» в частных беседах. Адвокаты ходатайствовали об отсрочке суда ввиду плохого состояния здоровья обвиняемых, (по делу проходил еще один эстонец — Юри Кукк), но ходатайство было отклонено. Повторное обследование обвиняемых было проведено на третий день суда, но обвиняемые вновь были признаны здоровыми. В день начала суда шел 135 день голодовки Марта Никлуса и 41 день голодовки Юри Кукка.
Оба обвиняемых не признали себя виновными и отказались давать показания и отвечать на вопросы.
8 января 1981 году Верховный Суд ЭССР приговорил Никлуса по ст. 68 ч. 2 УК ЭССР к 10 годам лишения свободы в колонии особого режима и 5 годам ссылки; признан особо опасным рецидивистом.
Заключение отбывал в лагере ВС-389/36 в поселке Кучино Чусовского района Пермской области. Участвовал в голодовке и акциях протеста, подписывал индивидуальные и коллективные письма протеста. Его постоянно подвергали наказаниям. 8 апреля 1982 наказан годом «одиночного заключения». В 1983 году его на 3 года перевели на тюремный режим в Чистопольскую тюрьму. ТАССР.
Из немного, что известно о пребывании Марта Никлуса в Чистопольской тюрьме. «27 марта 1984 у Марта, находящегося в Чистопольской тюрьме, состоялось свидание с матерью Эльфридой. Однако, когда свидание началось, ему запретили говорить с матерью по-эстонски. Март отказался подчиниться этому незаконному требованию, и его силой выволокли из комнаты для свиданий. После этого Никлус объявил голодовку, которую намерен продолжать до тех пор, пока незаконная дискриминация эстонского языка на свиданиях не будет прекращена».
В 1986 году возвращён в Кучино, а в 1987 году его перевели в лагерь ВС-389/35 на ст. Всехсвятская.
В июне-июле 1988 года в Эстонии прошли массовые акции протеста — митинги, голодовки, пикеты с требованиями освобождения эстонских политзаключенных, в том числе Никлуса. В начале июля его освободили. Когда Март Никлус был освобожден ,во время его возвращения домой, в Тарту, студенты пронесли его в тюремной полосатой робе на руках от железнодорожного вокзала до актового зала его родного Тартуского университета.
В 1992—1995 годах депутат Рийгикогу (парламента) Эстонии. Член эстонских и международных общественных организаций.
НОВОСЕЛЬЦЕВ ВАЛЕНТИН КЛАВДИЯНОВИЧ.
Родился 21 февраля 1937 года в селе Нестерово Парабельского района Томской области. Русский. Образование среднее. Окончил два курса историко–филологического отделения Кемеровского педагогического института.
Арестован 1 августа 1967 г. и осужден 18 октября 1967 г. по статье 70 ч. 1 — «Антисоветская агитация и пропаганда» УК РСФСР к лишению свободы на 2 года за распространение листовок. Заключение отбывал в Мордовских политлагерях. Освобожден 1 августа 1969 г.
30 марта 1977 г. осужден по статье 96 ч. 1 — «Мелкое хищение государственного или общественного имущества …» и статье 218 ч. 2 — «Ношение, изготовление или сбыт кинжалов, финских ножей или иного холодного оружия без соответствующего разрешения» к лишению свобода на 1 год и 6 месяцев. Освобожден условно-досрочно[.
Мелким хищением была определена срубленная на улице новогодняя елка, «холодным оружием» — кухонный нож. Заключение отбывал в общеуголовном лагере.
После освобождения, поселившись в Москве, пытался основать «Межидеологический союз», ставившей своей целью «борьбу с Сахаровым и сахаровщиной», за доступ к руководству Фонда помощи политзаключенных и распределению его средств. На момент третьего ареста бомжевал.
Арестован 10 января 1983 года. Инкриминировано распространение книг А. Джиласа, А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», А. Зиновьева «Зияющие высоты», а также устные высказывания об отсутствии свободы слова, об оккупации Афганистана, одобрение действий «Солидарности», заявления о том, что национальные республики являются колониями России, а социалистические страны — колониями СССР Осужден 4 октября 1983 г. по статье 70 ч. 1 – «Антисоветская агитация и пропаганда» УК РСФСР к лишению свободы на 5 лет и ссылке на 5 лет. Интересно, что прокурор просил назначить меньшее наказание: 5 + 3, суд добавил: 5 + 5. (Так можно?).
Заключение отбывал в Мордовских политлагерях, в лагерях Пермь-35, Пермь-36 и Пермь-37.
За участие в правозащитных акциях заключенных – забастовках и голодовках, 15 декабря 1984 г. был этапирован в тюрьму № 4 города Чистополь Татарской АССР на 2 года тюремного режима, причем «был лишен свиданий на год вперед» за отказ от работу». Возвращен в лагерь Пермь-36 17 декабря 1986 г.
Освобожден по помилованию 30 июня 1987 г.
Вазиф Мейланов:
От сумы, да от тюрьмы… (часть 16)
#нашчистополь #экскурсиипочистополю #чистопольскаятюрьма #музейполитическихрепрессий
Не следует считать себя неуязвимым, надежно защищённым от какого-либо несчастья…
Есть еще один очень значимый, известный «узник совести», проведший в Чистопольской тюрьме 2 года, друг и соратник Александра Огородникова, политзаключенного, диссидента, уроженца нашего Чистополя. Я говорю о ВЛАДИМИРЕ ПОРЕШЕ.
ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ ПОРЕШ (6. I. 1949—21. I. 2023) в 1972 году окончил французское отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета. После университета год работал переводчиком в НИИ микробиологии им. Пастера, затем младшим научным сотрудником в отделе истории Библиотеки Академии наук СССР. Предмет исследования — французские книги в России XVIII века.
В 1970-е годы нежелание мириться с унизительным для человеческого достоинства режимом Владимиру Порешу было свойственно в высшей степени. В 1973 году он встретился с Александром Огородниковым. Интересна их первая встреча в 1973 году: Владимир Пореш стоял на Невском проспекте, бородатый, длинноволосый, в потрёпанных джинсах. К нему подошёл выглядящий точно так же Огородников и спросил его в лоб: «Вы антисоветчик?», — «Да»,- автоматически ответил Пореш. «Тогда можно у вас переночевать?».
Я сам познакомился с Сашей Огородниковым в том же 73-м, летом. Его привел ко мне мой одноклассник, Герка Якимов. Саша выглядел именно так — вылинявшие, потрепанные джинсы, длинные волосы, такая же потрепанная куртка цвета хаки с нашитым лейблом «U.S.ARMY». Саша ею очень гордился и уверял, что ее носил американский пехотинец, воевавший во Вьетнаме. Типичный образ столичного хиппи, бунтаря против всех.
Вскоре Владимир Пореш примкнул к христианскому семинару Огородникова , проводившемуся в разных городах. Этот семинар был странным явлением. Более 100 человек съезжались раз в месяц на выходные из нескольких городов (Москвы, Петербурга, Смоленска, Уфы) для самообразования в вере. Участники семинара рассказывают, что главным для них были не сами семинары, а общение, долгие беседы о боге, о вере, о России. Все члены общины ощущали себя православными христианами, хотя взгляды их были далеко не одинаковы. В то же время все они не жаловали советскую власть. Христианская вера была для них основой освобождения от советского образа жизни и мировоззрения. Параллельно возник самиздатский журнал «Община». Приблизительно с 1977 года община Огородникова была под плотным контролем КГБ. В 1978–1980 годах она была разгромлена.
Когда Огородникова посадили, Пореш издал в Ленинграде третий номер «Общины», который был тут же изъят Комитетом. И почти сразу же, 1 августа 1979 г. был арестован и сам Пореш.
Ему инкриминировалось составление сборника «Бюллетень»; издание, хранение и распространение журнала «Община»; написание писем «К чешским друзьям», «К молодежи Запада» и Александру Солженицыну, открытого письма президенту США Джимми Картеру, изготовление фотокопии книги Солженицына «Бодался теленок с дубом». В обвинительном заключении говорилось также, что Пореш «своей целью ставил подрыв советского государственного строя и говорил о восстановлении монархии».
Во время следствия КГБ стало возить его по Ленинграду, где по-прежнему жили его жена и двое детей. Ему говорили, что его сразу же, прямо здесь освободят, если он согласится выступить с покаянием по телевизору. Пореш отказался.
Осужден по 70-й статье УК «Антисоветская агитация и пропаганда». Срок — 5 лет ИТЛ плюс 3 года ссылки. Срок отбывал в Пермских лагерях (Пермь-35). В 1982 году за «злостные нарушения осужденным режима содержания в ИТУ » переведен в УЭ 148/Т-4 — Чистопольская тюрьма. За день до окончания срока, 30 июля 1984 года, Владимир Пореш вновь арестован и осужден по статье 188-3 «Злостное неповиновение требованиям администрации». Злостное неповиновение выражалось в отказе от работы в знак солидарности с Сергеем Григорьянцем, которому сломали руку при попытке насильно сбрить усы. Еще ему вменяли в вину перебрасывание записок через ограждение прогулочных двориков. Приговорен Чистопольским судом к трем годам лишения свободы с присоединением неотбытых по предыдущему приговору одного дня и трех лет ссылки. Для отбывания заключения направлен в общеуголовный лагерь строгого режима в Кемеровскую область. И освобожден-то Пореш был не как все диссиденты, а как уголовник.
22 февраля 1986 года Владимир Пореш был освобожден на основании Постановления № 4 Пленума Верховного Суда СССР от 5 апреля 1985 года «О практике применения судами законодательства об ответственности за злостное неповиновение требованиям администрации исправительно-трудового учреждения».
Вернувшись в Ленинград, работал грузчиком, кочегаром в котельной. Стал одним из инициаторов создания религиозно-философского кружка и затем общества «Открытое христианство».
С развитием процесса перестройки общества, появления свободы слова, появилась известность в широких общественных кругах.
С 1990 года обучал французскому языку старшеклассников в организованных им и его коллегами экспериментальных классах средней школы. Кроме того, в петербургском Институте богословия и философии преподавал французский язык до 2012 года.
АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ СМИРНОВ Родился 2 февраля 1951, в Москве — советский и российский правозащитник, диссидент, политический заключённый.
Можно сказать. что потомственный политический заключенный, потому что еще его дед, тоже Алексей Костерин, советский писатель, общественный деятель, тоже был политзаключенным во времена Большого террора. Участник Гражданской войны, борец за установление Советской власти на Кавказе. Это его Петр Григоренко называл своим учителем, и это он был узником возникших после революции советских лагерей. Отец Алексея Смирнова младшего, Олег Федорович Смирнов, был арестован по политическому обвинению в 1952 году. Мать — состояла в диссидентском движении 60-х. После окончания физико-технический факультета Московского горного института работал на заводе ЗИЛ, в конструкторском бюро, в межфакультетской лаборатории вычислительной лингвистики МГУ, на экономическом факультете МГУ, в вычислительных центрах библиотеки естественных наук АН СССР. Знакомство с сотрудниками КГБ (в виде допросов) у Алексея Смирнова произошло еще во время учебы в институте.
В 1979–1982 годах Смирнов вместе с сыном Сергея Адамовича Ковалева, Иваном Ковалёвым, в московской квартире Андрея Сахарова занимался подготовкой информационных материалов о нарушениях прав человека в СССР для изданий «Хроники текущих событий» и «Вестей из СССР».
10 сентября 1982 года Смирнов был арестован Обвинение — статья 70 ч.1 УК РСФСР — антисоветская агитация и пропаганда, 13 мая 1983 года Московский городской суд приговорил его к 6 годам лишения свободы и 4 годам ссылки. Виновным себя Смирнов не признал. Срок отбывал в ИТК в Пермской области (Пермь-36) и в Чистопольской тюрьме.
16 марта 1987 года Смирнов был освобождён из заключения в порядке помилования.
В 1988 году он продолжил издание списка советских политзаключенных, которые продолжали оставаться в заключении. В 1989 году он стал координатором воссозданной Московской хельсинской группы и получил грант от фонда «Культурная инициатива» на проведение семинаров Ларисы Иосифовны Богораз. В 1990 году он провёл в Москве Первую Независимую конференцию по правам человека. Участвовал в работе российской делегации в Комитете по правам человека ООН, был организатором и участником правозащитных конференций и семинаров в различных странах, был экспертом Комиссии по правам человека при Президенте РФ.
СЛОБОДЯН МИХАИЛ КЛИМОВИЧ
Родился 1 января 1937 г. в с. Ганнивка Косовского повята Станиславского воеводства Польской Республики. Украинец, образование Среднее специальное, член КПСС. На день ареста работал директором сельского Дома культуры в селе Трач Косовского района Ивано-Франковской области, УССР.
Арестован 14 июля 1975 г. Приговорен Ивано-Франковским облсудом 20 января 1976 г. по статьям 62 ч.1 УК УССР, аналог 70-1 (антисоветская пропаганда); 64 (вооруженное восстание или вторжение в контрреволюционных целях на советскую территорию вооруженных банд, захват власти в центре или на месте); УК УССР к 11 годам ИТК и 3 годам ссылки.
Срок отбывал в Пермских лагерях и Чистопольской тюрьме. Ссылку отбывал в Джизакской обл. УзбССР.
Освобожден в апреле 1987 г. по помилованию.
Еще один политзаключенный, находящийся в одной камере с ЮРИЕМ ШУХЕВИЧЕМ на особом режиме в Чистопольской тюрьме и упомянутый в «Вестях из СССР» — ФЕДОР ФИЛИППОВИЧ ТРУФАНОВ.
Тут есть неточность. На самом деле Федор Труфанов, 1919 года рождения — рецидивист со стажем — десять судимостей. Из них две по политическим статьям — 02.08.1940 года Верховным судом Грузинской ССР по ст.58-10 и 58-11 УК РСФСР, и 28 ноября 1972 года Свердловским облсудом по статье 70 ч.2 УК РСФСР. Приговор — 10 лет тюремного заключения, с присоединением части неотбытого срока, и пять лет ссылки, всего 15 лет. Срок отбывал во Владимирской и Чистопольской тюрьмах. Так нередко бывало, среди уголовников бытовало мнение, что у осужденных по политическим статьям всегда лучше условия содержания (ну-ну…), поэтому они, находясь в заключении, начинали писать письма, содержащие политические требования, и получали новый срок, уже по политической статье. Это относится и к Федору Труфанову.
ЦУРКОВ АРКАДИЙ САМСОНОВИЧ. Диссидент, член подпольной студенческой организации «Левая оппозиция», еще один «сиделец» Чистопольской тюрьмы.
Родился в 1958 году в Ленинграде. В 1977 г. поступил в Тартусский государственный университет на математический факультет. В 1978 г. перевелся в ЛГПИ им. Герцена, на физмат. Интересно, учился в одно время с моей сестрой, возможно, встречались в коридорах «Герцовника». О том, каким был Аркадий Цурков можно узнать из воспоминаний Натана Щаранского, сокамерника Цуркова по Чистопольской «крытке».
«Еврейский мальчик из Ленинграда, влюбленный в математику и полный презрения к литературе и прочим несерьезным вещам, Аркадий Цурков стал диссидентом уже в пятнадцать лет. Он, как и его ближайшие школьные друзья и подруги, критически относился к миру взрослых вообще и к советской действительности в частности. После окончания школы они выпустили и распространили в самиздате первый номер журнала, в котором провозгласили свое политическое кредо: государство в его нынешней форме себя не оправдало; необходимы принципиальные, в том числе экономические, реформы; предприятиями должны управлять рабочие; роль профсоюзов в жизни страны нужно усилить…
Взгляды Цуркова были основаны на учении Маркса, а политика еврокоммунизма, провозглашенная итальянской и некоторыми другими западными компартиями, представлялась ему единственно возможной на современном этапе развития марксизма. Их журнал не призывал к каким бы то ни было насильственным действиям – он был лишь трибуной для восемнадцатилетних философов, предлагавших дискуссию. Тем не менее этот первый выпуск оказался и последним. Идеи еврокоммунизма КГБ вынужден терпеть, когда они обсуждаются вне страны, а не внутри нее. Ребят арестовали. Кто-то из них покаялся и освободился сразу, кто-то – позже, и только Цурков оказался для КГБ твердым орешком. Его детское упрямство – черта, которая сразу бросалась в глаза, оказалось сильнее всех ухищрений взрослых воспитателей из охранки. Аркашу осудила мать, отца у него не было, и он бы остался совсем один, но верная школьная подруга добилась права зарегистрировать с ним брак уже после его ареста, и это очень поддерживало моего нового товарища.»
Цуркова арестовали 31 октября 1978 г, второй курс. Ему было предъявлено обвинение по статьям 70, 72 и 190² УК РСФСР. (Антисоветская агитация и пропаганда; пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений, равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания; надругательство над государственным гербом или флагом). Помимо этого, ему инкриминировалось намерение провести в Ленинграде 16 октября 1978 года «Всесоюзную конференцию левых групп», издание и распространение самиздатовского журнала «Перспективы» (всего вышло 3 номера). «Перспективы» – журнал общественно-политического характера, в котором были опубликованы некоторые программные документы — «Тезисы о текущем моменте», «Критика тезисов о текущем моменте», отрывки из произведений П.А. Кропоткина, М.А. Бакунина и Л.Д. Троцкого, материалы о Кронштадтском восстании . По статье 72-1 Цурков и его «подельник» Скобов обвинялись в создании «Революционного Коммунистического Союза Молодежи», эту группу иногда еще называли «Левая оппозиция». В ходе следствия Аркадий Цурков признал отдельные факты в отношении себя лично, но отказался давать показания в отношении других лиц. Не отрицая факта своего участия в инкриминируемых действиях, он не согласился с обвинениями в «клеветнических измышлениях». Интересно было выступление свидетелей, которое легло в основу обвинения. Трое сокурсников Цуркова показали, что обвиняемый говорил о существовании монополии КПСС в СССР, что, по его словам, являлось тормозом для развития страны.
Приговор суда Кировского района Ленинграда, города, как тогда называли. «колыбели революции», — 5 лет ИТЛ и 2 года ссылки.
Срок Аркадий Цурков отбывал сначала в Пермских лагерях (Пермь-35, 36). Невероятно упрямство в отстаивании справедливости приводило его и в ШИЗО, и в ПКТ (штрафной изолятор и помещение камерного типа), а затем, через три года лагерей, за постоянные нарушения режима Цуркова перевели в Чистопольскую тюрьму, где он провел два года.
Арестован уже в нашей тюрьме вторично в конце 1983 г. за продолжение правозащитной деятельности в заключении. Приговорен 16 марта 1984 судом Кировского района г. Казани по ч. 2 ст. 193 УК РСФСР к 2 годам лишения свободы с присоединением неотбытых двух лет ссылки по первому приговору. Инвалид (болезни сердца, тромбофлебит, сильная близорукость). Ссылку отбывал в поселке Троицко-Печорск (Коми АССР). 12 февраля 1987 помилован Указом ПВС СССР и освобожден от отбывания ссылки.
Первый этаж — полуподвальный. В левом крыле второго этажа находились камеры политзаключенных:

На тридцать восемь комнаток всего одна уборная…
#нашчистополь #экскурсиипочистополю
Если в ваш коридор выходили двери, за которыми жили и ваши приятели, и ваши недруги;
— если вы помните, где на общей кухне стояли ваша плита и ваш стол;
— если с Мараткой (Колькой, Мишкой) из соседней комнаты вы пинали мячик в длинном коридоре;
— если вы помните грохот детской оцинкованной ванны, которую сбивал дядя Федя, пробирающийся по стене поздним вечером в день получки;
— если, вы, припрыгивая, стояли утром в очереди в туалет;
— если вы знали, что соль проще всего было занять у тети Зины из комнаты напротив, а дядя Паша всегда отрежет полбуханки в долг;
— если заставали свою сестру, целующуюся с Санькой из седьмой квартиры за дальним шкафом в коридоре;
— если прятали свои детские богатства — цветные стекляшечки, красивые коробочки из-под конфет в ящик с песком, стоящий в коридоре у двери;
— если вы помните, что такое «лампочка Ильича»;
— если возвращаясь ночью со свидания, в кромешной темноте, на цыпочках ступая к своей двери, вы влезали лицом в мокрое белье, развешенное накануне тетей Клавой;
— если все это, ну, может, с небольшими вариациями, живо и памятно для вас, то, поздравляю, вы — бывший житель коммуналки!
И вы, конечно, помните эти выходящие в коридор двери, обитые старой мешковиной, или вкусно пахнущим, пока новый, кожзамом, двери, расчерченные на ромбики струнами, натянутыми на ребристые медные шляпки тонких гвоздиков. Помните старые громоздкие шкафы в коридоре с непременной кучей барахла, наваленного на них. Помните велосипед, висящий на двух крюках под самым потолком. Помните железную старую облезлую стремянку, падающую с грохотом на пол при каждом прикосновении.
Вы помните запах вашего жилья, неповторимый запах коммуналки, который можно разделить, наверное, на десяток компонентов — влажный запах недавно мытых деревянных полов; с которых давно сошла масляная краска, старый, затхлый, вонючий запашок, исходящий от клочьев обивки двери, продранной соседской кошкой; тонкий, вкусный запах керосина от примуса, которым давно уже никто не пользовался, но все еще стоящего на шкафу в коридоре, резкий запах черной ваксы, которой ваш сосед начищал по утрам сапоги или ботинки, в зависимости от времени года, ставя ногу на маленькую приступочку возле входной двери, и едкий душок, тянущийся из-под двери туалета. А помните, как зимой по коридору гулял запах сырых валенок, которые некоторые счастливцы успевали первыми просунуть сквозь чугунные ребра общей батареи отопления под коридорным окном.
Вы помните ароматы всех блюд, когда либо готовившихся на вашей коммунальной кухне — и густой, насыщенный едкий запах щей из квашеной капусты, варившихся, кажется, ежедневно то одними, то другими соседями, и легко перешибавший остальные кулинарные ароматы, и пьянящее благоухание свежего пшеничного хлеба, лежащего на соседнем столе, и слегка вонючий душок, распространявшийся от вяленой густерки соседа, рыбака, висевшей под потолком на веревочке, натянутой между стояком отопления и крюком, торчавшим из стены с незапамятных времен. Рыба были нанизана на пеньковую веревку через глазные отверстия, и, если дернуть одну за хвост, то непременно сорвется соседняя.
Вы помните свою комнату — одну, редко две, всю заставленную мебелью, приткнувшейся вдоль стен. С непременным деревянным гардеробом, с висящем на дверце огромным зеркалом и двумя резными дубовыми листиками поверху этой дверцы. Гардероб этот, если позволяла ширина комнаты, иногда стоял торцом к стене, отгораживая бабушкину кровать или кровать родителей. С письменным столом возле окна, за которым учили уроки, ужинали и обедали по выходным. Рядом, на тумбочке, стоял ламповый «Урал», а у тех, кто побогаче — «Октава», из которых по утрам, в семь десять, с надеждой выслушивался прогноз погоды — а вдруг повезет, и можно в школу не идти! Помните кровать с панцирной сеткой и никелированными шишечками на спинках, стоящую под блеклым гобеленом с вытканными далекими горами, опушкой леса, из которого выходит семья оленей, с непременным домиком возле ручья и одиноким деревом на переднем плане. В комнату втискивалась этажерка, полочки которой застилались вышитыми холстинками или вручную связанными салфеточками. Несколько книг, тяжелый никелированный утюг, колода карт, коробка с мешочком бочонков для игры в лото и карточки, приткнутые сбоку в той же коробке, тут же несколько фарфоровых, чаще фаянсовых, дешевых безделушек и супница из подаренного родителям к свадьбе посудного набора, в которой мама прячет соевые батончики, кто же будет в коммуналке использовать супницу по назначению! Да, забыл, на одной из полок лежит папина электрическая бритва и рядом с картонной коробочкой пудры стоит флакончик заветной, маминой, дорогущей, а потому редко используемой, «Красной Москвы». Еще на свободной стене красовались шишкинские «Лесные дали», или его же «Утро в сосновом лесу». Вспомнили?
Наша семья — папа, мама, я и младшая сестра жили в такой двенадцатиметровой комнате в коммунальном доме по Молодежной. Да, какое-то время у нас проживала еще и нянечка для сестры — а что вы хотите, послеродовый декретный отпуск в 1959 году был всего два месяца. Я и сейчас, когда случается проходить сквером перед бывшим часовым заводом, всегда смотрю на наш балкон, сдвоенный сегодня с соседним.
Все наши города, и наш Чистополь не исключение, представляли собой сплошное коммунальной жилье. После Великой Октябрьской, когда «кто был ничем, тот стал всем», когда кухарки пошли в депутаты, «когда пришел дележки час», когда началась пора экспроприаций и контрибуций, когда за счет отобранного жилья попытались решить вековой «квартирный» вопрос, когда сам товарищ Ленин требовал: «Вы потеснитесь, граждане, в двух комнатах на эту зиму, а две комнаты приготовьте для поселения в них двух семей из подвала. На время, пока мы при помощи инженеров не построим хороших квартир для всех, вам обязательно потесниться. Ваш телефон будет служить на 10 семей. Это сэкономит часов 100 работы, беготни по лавчонкам и т. п. Затем в вашей семье двое незанятых полурабочих, способных выполнить лёгкий труд: гражданка 55 лет и гражданин 14 лет. Они будут дежурить ежедневно по 3 часа, чтобы наблюдать за правильным распределением продуктов для 10 семей и вести необходимые для этого записи». ( Из статьи «Удержат ли большевики государственную власть?»). Так представляли себе большевики, по крайней мере, их вождь, жизнь страны на переходный период. И этот период, пока «товарищи инженеры» строили хорошие квартиры для всех, тянется, похоже, до сих пор.
Вся страна, за исключением руководящей элиты, ученых и тщательно отобранных деятелей искусств, жила да совсем недавнего времени в коммунальных квартирах. Наверное, только в конце 50-х, начале 60-х в Чистополе начали строить дома с отдельными квартирами, так называемыми «хрущевками», правда, зал был проходной, но зато в углу находилась дверь в кладовку, и в которых были — о, чудо, собственный туалет с висящим под потолком гремящим бачком, в туалет же еще была втиснута и чугунная ванна. Тут же стоял титан, которых надо было топить обрезками досок, выписываемых папой с завода. И не беда, что на кухне, у самой двери, стоял красный газовый баллон, о который так легко было забить ногу. В эту чудесную, светлую, такую просторную квартиру, по улице Дзержинского, мы въехали в 63-м. Папа тогда работал секретарем комсомола на заводе, должность номенклатурная, потому-то, вероятно, и получил тогда отдельное жилье, уйдя после этого обратно в свой восьмой цех, на прежнее место, токарем.
Целые две комнаты, уже можно было притащить аквариум, и на окно поставить жутко колючий кактус. Под потолок повесить не мещанский абажур с кистями (как бы я хотел его сегодня найти), а трехрожковую яркую люстру! И на тумбочке вскоре стал красоваться уже черно-белый «Рекорд-64». Но наша семья была, скорее исключением из правил, да и жил наш дом, по привычке, как большая коммунальная квартира, летом только на ночь расходились по своим спальням. Праздники — на лавочке во дворе. И опять дядя Женя Чугунов наяривает на трофейном «Вельтмайстере»: «Трехъятажный дом горит, а народ кругом стоит…», или кто-то вытаскивал радиолу в открытое окно, и начинались танцы. По вечерам гремели костяшки домино на дворовом столе, и игроки отгоняли малолетних советчиков. А уж если дядя Гриша Бабенко, бывший летчик 8-го запасного бомбардировочного полка, дислоцированного во время войны в Чистополе, оставлял у подъезда свой «Запорожец», который в народе именовали «горбатым», вся мелочь пузатая бежала его мыть, зная, что потом можно будет набиться в него, сельди в бочке позавидуют, и добрый дядя Гриша сделает пару кругов по нашему кварталу. И вот уже мама стала мечтать о переезде в элитную сталинку, где огромная кухня и большой коридор, где потолки не два пятьдесят, а целых три двадцать. Эти красивые дома с высокими окнами и просторными квартирами были построены несколькими годами ранее, они и дали название микрорайону — Поселок Часового завода. Но и в них отдельная квартира была роскошью, доступной лишь руководству Часового завода, а в большинстве своем это были те же коммуналки, только соседей поменьше, да кухни побольше. А рядом, по соседству, и вдоль Дзержинского, и по Часовой продолжали красоваться черные деревянные двухэтажные дома, с торчавшими по бокам трубами коммунальных клозетов, с длинными коридорами на обеих этажах, в которые выходили двери комнатушек, и общей кухней.
Вскоре после войны в нашем Чистополе развернулось массовое строительство деревянных, из бревна или бруса, коммунальных домов. Она росли повсюду. Очень быстро вся свободная площадь бывшего Успенского женского монастыря была застроена такими двухэтажными деревянными домами. Сколько на территории монастыря было таких домов? Десять, пятнадцать, двадцать? И адрес у них у всех был одинаковый — Поселок Водников. Со временем они перешагнули Ржавец и полезли в гору, поближе к Мебельной фабрике.
А центр Чистополя, центр нашего города — это было сплошное коммунальное жилье. Не тридцать восемь комнаток, но двадцать восемь в Доме Рябинина было. И туалет торчал одинокой будкой с двумя вечно распахнутыми дверями, на дворе, поодаль. Не было в центре города канализации, упразднили большевики. Дома Лузинова, Рожественского, Логутовых, Маклакова, Маланьичева, да что там дома, здания крупорушек и хозяйственных складов Лихачевых, Шашиных, Челышевых, келейные корпуса успенского монастыря, и те, после национализации, как ее скромно назвали основоположники нашего государства, были превращены в коммуналки. Вот это, действительно были «человейники». Дворы стихийно превращались в спортивные площадки — помните турник в своем дворе?, в нашем был. Хоккейных коробок тогда не строили, но хоккей был, и был футбол, с кошмарно тяжелым мячом со шнуровкой, которым убить можно, если в лоб попадет. Были штандр и вышибалы, жестокий «козел» и классики (шестой золотой, пятый — проклятый), были ножички и колечко-колечко, конечно, прятки и конечно, стрелы. Двор был местом, как сейчас называют, социализации разновозрастного детского коллектива, а тогда — просто Двор моего детства. И не только моего, нашего — двор, наверное, всех чистопольцев моего поколения. И город коммуналок был нашим городам.
В том нашем городе не было места современному цинизму, разросшейся беспринципности, непомерной алчности, безграничному лицемерию, утонченной меркантильности, всеподавляющему властолюбию и безмерному конформизму. В том нашем городе ценился труд и уважался человек. В том нашем городе были в почете инженер, врач, учитель, специалист своего дела. Мы верили в справедливость и равенство. Музыка, литература, живопись — все это было рядом, было наше, как же можно, без книг. Мы верили в будущее, мы ждали его, надеясь, что наши дети будут жить лучше нас. Дух надежды, дух оптимизма — это было про нас.
Сейчас нашего города нет. Нет не потому, что не стало коммуналок, или, почти не стало. Нет, не потому что большинство получило или купило, наконец, отдельные квартиры. Нашего города нет потому, что не стало нашего общества, того общества, в котором мы чувствовали себя людьми, гражданами, человеками. Оно умерло, трансформировалось в соответствии с новыми жизненными ценностями. В обществе потребления нравственность и духовность стоят не на первом месте, и, даже, не на втором. и не третьем. Вот это общество и привело наш город туда, где мы сейчас и находимся, сами знаете где.
Хотел ведь о коммуналках. Большинство их расселили. Вон, целый микрорайон из переселенцев возник на западном въезде в Чистополь. Расселили и снесли, оставив зияющие пустыри в центре города. Лишь оставшиеся ряды почтовых ящиков напоминают о бывшем коммунальном жилье. Да будки клозетов еще торчат посреди пустырей. Видимо снос этих сооружений не был включен в смету. Их, этих домов нашего детства, осталось совсем немного, да и оставшиеся получили новый прикид после программы капитального ремонта. А те, которые мы помним с рождения, доживают свои последние дни. Один из таких домов, мимо которого я четыре раза в неделю ездил на автобусе в музыкальную школу, еще стоит на улице Энгельса, дом №34. Дом был построен в середине 30-х годов, на территории, принадлежавшей снесенному храму Казанской Божией Матери. Кто только не жил в нем, даже бомжей пытались вселить. Но дом все вытерпел. И посмотрите, как отличалась архитектура коммунальных домов 30-х годов от тех, которые были построены после войны. Сложный фасад, интересные слуховые окна, большие окна с оригинальным переплетом. Сегодня он стоит пустой, с заколоченными фанерой окнами, ждет своего печального конца. А вот дом с улицы Мира, тот, который строили в 50-х. Обшарпан, на крыше еще шифер лежит, но стоят кое-где пластиковые окна, видимо, участь его пока не определена . Еще один сохранившийся из возведенных в 50-х годах бывший коммунальный дом стоит в самом центре города, по Толстого, внутри квартала. Его соседа уже обили жутким вездесущим сайдингом и заменили ему крышу, а в этом, жильцы, устав ждать, решили, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих.
Мир нашего детства, нашей юности, наша большая коммунальная квартира, как его не называй — социальной утопией, или социальным равенством, все равно он нам дорог, все равно мы бережем его в памяти. Жаль, что только в памяти. Посмотрите, сначала в Казани, потом в Челнах открылись Музеи соцбыта, по сути своей — музеи коммуналок. И посещаемость в них — дай бог каждому академическому музею. И никого в них тащить не надо, люди сами приходят. Все мы хотим, пусть ненадолго, пусть на время, но вновь очутиться в том времени, «когда деревья были большими». В нашем городе планировали создать и Музей политических репрессий, и Музей гражданской войны, и Музей Бутлерова. Ничего этого пока нет, и будет ли? Знаю, что Айрат Хаматов мечтал когда-то создать такой музей, музей соц быта, музей коммуналок, музей нашего детства. Может быть теперь, в новой своей должности, с новыми возможностями, он попытается воплотить свою мечту? Планы Минкульта по созданию в городе музеев еще сто раз переменятся, а такой музей точно будет востребован и чистопольцами и гостями нашего города. И представляете, сколько экспонатов принесут в такой музей сами жители. Сам принесу все из «Старой квартиры». Сколько квартирников, концертов, встреч можно будет в нем провести! Сколько выставок наших художников вместят его стены! Это же будет живой клуб, место обитания творческих людей, место зарождения городского общества в полном смысле этого слова. Как вы считаете нужен городу такой музей? Или общество уже не подает признаки жизни?
Ну, хотя бы, помечтал…
Ах, как хочется вернуться,
Ах, как хочется ворваться в городок
На нашу улицу в три дома,
Где всё просто и знакомо, на денёк,
Где без спроса входят в гости,
Где нет зависти и злости — милый дом,
Где рождение справляют
И навеки провожают всем двором…
От сумы, да от тюрьмы… (часть 17)
#нашчистополь #экскурсиипочистополю #чистопольскаятюрьма #музейполитическихрепрессий
Не следует считать себя неуязвимым, надежно защищённым от какого-либо несчастья…
Несмотря на все уменьшающееся количество просмотров, я все-таки продолжу публиковать перечень политзаключенных, сидящих в Чистопольской тюрьме, тюрьме №4, как она числилась по документам в 70-е, 80-е годы прошлого, XX века. Я понимаю, что сегодня у общества другие запросы, другие интересы, но забывать тех, кто отстаивал принципы демократии в нашей стране, нельзя.
Итак, продолжаем. БЕГУН ИОСИФ ЗИСЕЛЕВИЧ — советский диссидент, отказник, борец за права советских евреев, политзаключенный, кандидат технических наук. После эмиграции в Израиль — издатель, основатель и главный редактор издательства «Даат» («Знание»), главный редактор журнала «Новый век».
Иосиф Бегун — один из наиболее значимых и известных участников национального движения советских евреев, один из первых его карбонариев. 18 лет противостоял репрессивному аппарату страны Советов.
Из автобиографии, которую Иосиф Бегун назвал «Краткий курс жизни и борьбы еврейского активиста в СССР».
«Родился летом 1932 года в Москве в семье рабочего. Родители из еврейского местечка под Минском незадолго до этого переехали в Москву. Жили трудно в московской коммуналке. Мать работала инструментальщицей на автозаводе ЗИС, отец – до революции — ешиботник, подрабатывал на подсобных работах. Среда, где мы жили – пролетарии, заводские рабочие, так что уже в ранние детские годы я был знаком с антисемитизмом.
Хотя я любил учиться, после семилетки пошел в техникум (50-рублевая стипендия была важным подспорьем в семье). В 1951 году, получив звание техника-самолетостроителя, почти полгода был без работы, 5-й пункт подвел. Работал до 1956 года в КБ, где проектировали вертолеты, одновременно изучал радиотехнику на заочном факультете МЭИ. С 1957 г. по 1969 работал в одном из московских НИИ радиоэлектроники. К своим 35 годам получил звание и должность старшего научного сотрудника, предварительно защитив кандидатскую диссертацию. Но уже через пару лет, под влиянием еврейских чувств, резко усилившихся после арабо-израильской войны 1967 года, ушел из секретного НИИ на мирную работу — преподавать математику в сельхозинституте. Это был мой первый шаг на пути к Израилю. В 1971 подал документы в ОВИР с заявлением о выезде, разрешения не получил. Началась жизнь отказника. Еще в середине 60-х начал брать уроки иврита у одного пожилого еврея, а с подачей документов в ОВИР начал сам преподавать язык частным образом…С начала 1970-х принимал активное участие в деятельности по легализации иврита и возрождения еврейской культуры. Деятельность эта заключалась (говоря языком Уголовного Кодекса тех времен) в «изготовлении, распространении и хранении антисоветских материалов», другими словами, литературы по еврейской культуре – книг и любой другой информации по истории еврейского народа, его языка, литературы, духовном наследии, сионистском движении. Тогда все этот входило в понятие «сионистской», т.е. «антисоветской», враждебной советскому народу, деятельности. В то время я активно занимался составлением коллективных писем, памфлетов, статей для самиздатских журналов. Признаюсь, что эти годы были для меня временем большого душевного подъема, я глубоко осознавал свою причастность к справедливому движению за права советских евреев, которых политика советской власти обрекала на неизбежную ассимиляцию».
Впервые арестован (в превентивных целях) в мае 1972 года во время приезда в СССР президента США Ричарда Никсона. Просидел 10 дней в Коломенской тюрьме.
В декабре 1976 года был задержан как участник симпозиума по вопросу о состоянии еврейской культуры в СССР.
После попытки встречи с консулом США в марте 1977 года был арестован, обвинён в тунеядстве (на суде пытался доказать, что преподавание иврита является трудовой деятельностью) и 1 июля осуждён на два года ссылки. Сослан был на прииск Буркандья Магаданской области. В январе 1978 года вернулся в Москву, где ему отказали в прописке, и вынужден был жить в городе Александров.
17 мая 1978 года был арестован у здания Московского городского суда, где судили председателя Московской Хельсинской группы физика Юрия Орлова. Причина ареста — нарушение паспортного режима. Была такая форма протеста — прийти к зданию неправового суда, чтобы продемонстрировать поддержку подсудимому и оппозиционность властям. В зал не пускали – там находились только специальные “представители общественности”.
И вот стоят лицо в лицо, и суть не в поколеньях,
Не сыновья против отцов, а сила против правды,
Видать, опять пора решать, стоять ли на коленях,
Иль в Соловки нам поспешать, иль в опер-лейтенанты.
Юлий Ким о противостояниях на таких «судах».
28 июня 1978 года был вновь осуждён и сослан в Магаданскую область, на этот раз на три года. Ссылку отбывал в посёлке Сусуман, работал электромонтёром. Написал в ссылке ряд статей, переданных на Большую землю и опубликованных в самиздате. В августе 1980 года был освобождён и отправлен на «101-й километр», в поселок Струнино Владимирской области.
6 ноября 1982 года снова арестован по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. Иосифу Бегуну было инкриминировано написание и распространенно многочисленных статей, докладов, выступлений, заявлений, писем к мировой общественности, в комиссию по правам человека ООН, Всемирному съезду профсоюзов. Следствие длилось более года. Приговор — 7 лет лагерей и 5 лет поселения. В феврале 1984 года переведён в Пермскую область, где отбывал срок в колониях ВС-389/35, 36, 37. За неоднократные нарушения лагерного режима переведён в мае 1985 года в Чистопольскую тюрьму сроком на три года. Но в это время уже началась перестройка, и в феврале 1987 года Иосиф Бегун под давлением советской и мировой общественности был досрочно освобождён (по помилованию) и вернулся в Москву.
После освобождения эмигрировал в Израиль. В мае 1988 года его принимал в Белом доме президент США Рональд Рейган. Живёт и работает в Иерусалиме, занимается издательской деятельностью. Он основатель и главный редактор издательства «Даат» («Знание»), с 2000-года главный редактор русско-еврейского журнала «Новый век».
Кроме «стопроцентных» политзаключенных, борцов за права и свободы граждан «самой свободной страны», в Чистопольской тюрьме №4 содержались и осужденные по 64 статье — «измена Родине», статье, с наказанием вплоть до расстрела. «Сидельцев» по этой статье также причисляли к политическим, и срок свой они отбывали в том же левом крыле второго этажа старого корпуса тюрьмы. Причины попасть под эту статью у них были разные, о некоторых я уже рассказывал, а сегодня расскажу о китайских шпионах, «мотавших срок» в Чистопольской тюрьме.
Попадали в китайские шпионы, как правило, из пограничных войск, не вынеся классической дедовщины, которой в СА по отчетам крупнозвездных начальников не было. Не в силах терпеть издевательства старослужащих, молодые бойцы бежали через колючую проволоку, через следовую полосу, и сдавались первым встречным китайским военным. Их отправляли на пару месяцев в разведывательно-диверсионную школу, а затем отправляли с заданием обратно, к своим, где деятельность новоявленных шпионов быстро пресекалась. Дальше — суд, зона, тюрьма.
Таким шпионом, сидевшим в Чистопольской тюрьме, был ДОЛЖИКОВ АЛЕКСАНДР ЭДУАРДОВИЧ.
Родился в 1959 году в городе Никополь Днепропетровской области, украинец, образование среднее. Служил в СА в Дальневосточном военном округе рядовым, старшим топографом. Арестован 11 июня 1983 года в Хабаровске по обвинению в шпионаже в пользу КНР. Осужден военным трибуналом ДальВО 27.апреля 1984г. по статьям 64 «а», 255 «а», 247 «а», 218-1 ч.2, 218 ч.1, к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме. Содержался в Чистопольской тюрьме (10 июня 1984 — 12 июня 1990) и ИТК ВС 389/35 (Пермь-35). Освобожден 07 февраля 1992 года по Указу Президента РФ от 30 января 1992г.
Еще одному китайскому шпиону предшествовала интересная история. Разыскивая материал к циклу статей о Чистопольской тюрьме, я, естественно, обратился за помощью к Рафаилу Хамитовичу Хисамову, который и поведал мне о китайских шпионах, обитателях Чистопольской тюрьмы. При этом, он вспомнил случай, пересказанный ему одним из надзирателей, как одному из заключенных, при выводе его из камеры, не понравилось грубое обращение, и он буквально за пару минут раскидал по коридору и выводящего, и трех других надзирателей, поспешивших ему на помощь, после чего встал, как и полагалось, лицом к стене. Как-то мне не слишком поверилось в пересказанное, но каково было мое удивление, когда я нашел этого заключенного.
Итак, БОБЫЛЬКОВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ. О нем, о его характере, о его силе воли, можно книгу написать, настоящий приключенческий роман. Собственно, они и написана, не роман, конечно, а воспоминания. Написал их сокамерник Бобылькова и по Чистопольской тюрьме, и по Пермскому лагерю Алексей Смирнов.
Родился Анатолий Бобыльков 12 августа 1937 г. в г. Дорогобуж Смоленской области. Рос без отца, послевоенное трудное время, школа, армия.
Первая отсидка — 1958 год за ограбление сельмага со своей подельницей — заведующей того же магазина. Три года лагерей. Помыкавшись по зонам и решив, что вся страна — большой лагерь, Бобыльков задумал бежать за границу, и, конечно в Штаты. Несколько лет изучал особенности охраны границ с различными государствами и решил, что безопаснее всего бежать в Северную Корею — КНДР. Затем Анатолий планировал перебраться в Южную Корею, а дальше проще. Получилось, границу перешел, прошел всю Северную Корею, но в приграничном с Южной Кореей городке Бобылькова задержали советские же специалисты, строившие какой-то объект, и сдали его корейской полиции. Корейцы решили, что перебежчик– советский шпион, и, разумеется, посадили его в тюрьму. Сидеть ему пришлось в совершенно жутких условиях: какая-то земляная яма с невысокими стенами и крышей из бамбука. Ну и еда соответственная. К тому же почти всякий сильный порыв ветра рвал линии электропередач. Однажды в штормовую ночь, когда в очередной раз погас свет, Анатолий вылез из ямы, набросил на прохудившуюся колючку лестницу и ушел в сторону границы с Китаем. Границу пересек на товарняке и решил двигаться в сторону Макао. На третьи сутки был задержан бдительными крестьянами. Дальше последовали три года уже китайской тюрьмы. Все это время Анатолия Бобылькова вербовали на работу в китайскую разведку. Поняв, что другого шанса бежать у него не будет, Анатолий дал согласие. Бобылькова учили языку, технике перехода границы, приемам рукопашного боя, умению держать себя на допросе, различным специальным навыкам добычи информации и передачи донесений. Спустя несколько месяцев Толю отвезли к советской границе, помогли в дождливую ночь перебраться через Аргунь и отправили в сторону Читы забирать из таежного тайника какую-то капсулу с фотографиями. Вскоре он добрался до точки, нашел нужное дупло, забрал капсулу и двинулся обратно. Отошел уже довольно далеко, когда его все-таки схватили. Военнослужащие в форме без опознавательных знаков перевезли шпиона Бобылькова на какую-то заимку, где, избивая, требовали признаний в шпионаже в пользу КНР. Бобыльков держался стойко и довольно быстро экзекуция прекратилась, оказавшись проверкой на прочность, что-то вроде выпускного экзамена в китайской разведшколе первой ступени. Бобылькову было присвоено звание лейтенанта. Дальше учеба продолжалась уже более основательно. Всего на службе в китайской разведке Анатолий Бобыльков провел около трех лет. Своим сокамерникам по советским лагерям Бобыльков рассказывал только о трех успешных ходках в СССР, сколько их было всего, конечно же, неизвестно. Во время последней заброски в СССР был арестован. В 1981 осужден по 64-й статье УК РСФСР за «измену Родине». Приговор — 15 лет лагерей. Срок отбывал в Мордовских лагерях №№3, 5. В 1983-м предпринял попытку побега. Тайком он сушил сухари, довяливал выдававшиеся в обед порционные куски соленой рыбы и копил карамельные конфеты с начинкой-вареньем из ларька, а еще табак – сбивать со следу собак. Удалось даже раздобыть и гражданские спортивные штаны с футболкой. В мае 1983-го во время грозы выбило электричество во всей зоне, дизеля, как всегда, не запускались, и Бобыльков, с помощью лестницы, успел добраться до последнего ограждения, когда в лагере снова включился свет. На его беду, один из прожекторов оказался направлен как раз на тот забор, на котором сидел Анатолий. Как он сам рассказывал, выхода было только два — спрыгнуть на ту сторону забора, на вольную, или же обратно на территорию лагеря. Анатолий выбрал второе, рассудив, что до леса добраться не успеет, значит, просто застрелят при попытке побега, а в лагере еще поживет. Подоспевшие охранники били его смертным боем, и в наказание, и в отместку, и, чтобы другим неповадно было. Бобыльков так орал, что к внутренней колючке сбежался весь лагерь. При зеках добивать не решились. Шесть месяцев ПКТ, затем еще два года к сроку за попытку побега и перевод в Пермские лагеря. По прибытию в политическую 36-ю пермскую зону следует обязательный двухнедельный карантин в ПКТ — помещении камерного типа, где Анатолий Бобыльков и познакомился с Алексеем Смирновым.
«Круглый коротышка, всегда веселый…А как умел сидеть! В лагере, а особенно в камере – великое искусство», — из книги Алексея Смирнова «Выбор». В 1986 переведен в Чистопольскую тюрьму №4. Какое-то время провел в одной камере с Анатолием Марченко. Умер в 1987 году — отказали почки, отбитые еще в Мордовском лагере при попытке побега.
Да, по поводу драки в коридоре Чистопольской тюрьмы. Из «Записок лжесвидетеля», книги Ростислава Борисовича Евдокимова, российского публициста, поэта, общественно-политического деятеля, мемуариста, советского диссидента, правозащитника, политзаключенногов 1982-1987-х годов, одного из сокамерников Анатолия Бобылькова.
«Был он разлапист и слегка косолап. Среднего росточка не шибко мускулистый мужичок с комковатым лицом. Но, довольно скоро мы обнаружили, что за внешней разболтанностью скрывалась редкая сноровистость и точность движений. Есть такая полулегендарная разновидность восточных единоборств – «стиль пьяного». Это, когда упившийся вусмерть винолюб качается влево, но оказывается, почему-то, справа, шатается, не может удержаться на ногах, но падая, попадает пяткой в подбородок противника, ну и так далее… Говорят, в процессе обучения старательным ученикам и впрямь доводится употреблять зелья немерено. Но постепенно наставники дозу сокращают, и высшим пилотажем почитается умение, будучи совершенно трезвым, совершать все непредвиденные и парадоксальные движения хмельного гуляки. Причем так, чтобы завершались они неожиданно хлесткими, жесткими и очень даже точными ударами. Не знаю, что здесь правда, а что сказка, но наш новый сокамерник двигался именно так. Казалось, он вот-вот что-нибудь расплещет, уронит, сломает, но с какой-то медвежьей, звериной грацией он мог бы, наверно, станцевать вприсядку с мыльными пузырями в руках – и те не лопнули бы». Все-таки обучение в китайской разведшколе не забывается. Вот такая история:
От сумы, да от тюрьмы… (часть 18)
#нашчистополь #экскурсиипочистополю #чистопольскаятюрьма #музейполитическихрепрессий
Не следует считать себя неуязвимым, надежно защищённым от какого-либо несчастья…
В прошлой части цикла о узниках Чистопольской тюрьмы я рассказал о необычной судьбе отчаянного русского парня, китайского шпиона, неоднократно забрасываемого на территорию СССР, попытавшегося совершить побег из Мордовской зоны и умершего в Чистопольской тюрьме, о Анатолии Бобылькове. Мне казалось, что человека, авантюрнее Бобылькова, уже и быть не может. Я ошибся. Судите сами. Писатели, сценаристы и режиссеры явно прошли мимо этого необыкновенного сюжета.
ЯНИН ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ. Родился в 1947 году в Самаре, городе Куйбышев тогда. Жил в благополучной, обеспеченной семье. Родители работали инструкторами обкома КПСС. «Еще в школе он выделялся спортивностью, эпатажностью и продвинутостью. Все ему было доступно — спортивный велосипед, мотороллер», — вспоминает его приятель Владимир Сандлер.
После окончания школы, в 1964 году поступил в Черниговское высшее военное авиационное училище. В 1968 г. с отличием его закончил. Службу Валерий начал в Западной Белоруссии в истребительном авиационном полку
За организацию протестного выступления лётчиков своей эскадрильи с требованием улучшения жилищных и бытовых условий перед посетившим полк главкомом ВВС маршалом авиации Кутаховым, был отстранен от полётов и направлен в Минский госпиталь на психиатрическую экспертизу. Осенью 1970 года экспертиза признала его здоровым и годным к прохождению дальнейшей службы.
Неугодного летчика перевели в Читу. Здесь Янин открыто выступил против начальника политотдела, устроившего торговлю в полку дефицитными мотоциклами «Урал». В результате получил отказ в рекомендации для поступления в военную академию.
«Наверное, именно тогда, в начале 73-го, я пришел к окончательному решению, что ни служить в такой армии, ни жить при таком режиме больше не смогу. Жестокость, двуличие, коварство – во всём. Именно тогда я решил бежать на Запад. Захватывать самолет, рисковать жизнями людей – нет, это не в моем характере. Я понял, что могу и буду рассчитывать только на себя, на свои собственные силы…», — из записей Валерия Янина.
В августе 1973 года Янин вместе с женой Людмилой и сыном отправился в отпуск на побережье Чёрного моря. Валерий взял билеты на круизный лайнер «Иван Франко» и ночью 13 сентября 1973 года между Сухуми и Батуми выпрыгнул за борт. В море смог накачать лодку и на четвертый день плавания добрался до побережья Турции. Утром 17-го сентября Янин сдался полиции и попросил убежища в США.
Поселился в Нью-Йорке, снял квартиру на Бродвее, стал работать таксистом. Но, тоскуя по жене и сыну, решает перевезти их также в Америку. Получив американский туристический паспорт, 22 сентября 1974 года он вылетает в Турцию. Добравшись до прибрежного городка Фындыклы, вновь на надувной лодке, он совершил обратное путешествие до грузинского берега. До Самары дорбрался на электричках. Дома убедил жену отправиться с ним в США. Взяв девятилетнего сына, они отправились к южной границе. В районе Поти, опять же на надувной лодке, уже вся семья совершила попытку побега.
В 17 км от берега лодку заметили на рыбацком баркасе и сообщили пограничникам. Беглецов арестовали. 11 месяцев в СИЗО, после чего Трибуналом Московского военного округа Валерий Янин был признан невменяемым, отправлен в институт Сербского, диагноз – шизофрения. Янин перевезли в спецпсихбольницу в Казани. Жена, Людмила, покаялась в КГБ, была освобождена от наказания, и развелась с мужем.
Находясь в Казанской СПБ, Янин знакомится с земляком – Анатолием Черкасовым, попавшим туда за попытку создания Мангышлакской Хельсинской группы, и уговаривает его после освобождения бежать по проторенному маршруту в Турцию.
В 1978 году Янин выходит на свободу и устраивается работать мастером на заводе. Знакомится с работавшей там же 16-летней Наташей Пятаевой. Тем временем освобождается Анатолий Черкасов, и в августе 1979 года друзья отправляются в Крым. Ночью 17 августа 1979 года вся троица выпрыгнула за борт теплохода «Молдавия». Беглецов волной разметало в разные стороны, Янин и Пятаева накачали в воде лодку, но не смогли найти Анатолия, потерявшего фонарик. Через пять дней его в бессознательном состоянии вынесло на мыс Тарханкут, где его подобрали рыбаки и сдали пограничникам.
19 августа беглецы встретили в море советское торговое судно. От предложения подняться на борт отказались, заявив, что они – потерпевшие крушение американские яхтсмены и сами справятся. Тем не менее, советские моряки доложили о них пограничникам. За беглецами прибыл пограничный катер. Далее погранзаства, СИЗО Симферополя. Наташа Пятаева, как несовершеннолетняя от наказания была освобождена. Валерию Янину было предъявлено обвинение по ст.75, 208 УК УССР (аналог ст.83 и 210 УК РСФСР, «незаконный переход границы» и «вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность»).
11 июня 1980 нарсуд Октябрьского района г. Куйбышева приговорил Янина к 5 годам лишения свободы. В июле Валерий Янин объявил голодовку, требуя лишить его гражданства. Был доставлен в лагерь города Новокуйбышевск Куйбышевской области.
В 1982 года избил в зоне криминального авторитета, пытавшегося его ограбить. Был переведен в лагерь в Киргизию. Когда в лагере рассматривался вопрос о переводе некоторых заключенных в колонию-поселение, начальник отряда, в котором находился Валерий Янин, заявил, что Янин пытался дать ему взятку, чтобы добиться для себя такого перевода. Янину было предъявлено обвинение по статье 181 УК КиргССР (аналог ст.174 УК РСФСР, «дача взятки»). Он был приговорен к 8 годам лагерей строгого режима (с присоединением неотбытой части срока по предыдущему приговору).
Это еще не все. Авантюра Валерия Янина, казалось, не имеет конца. Летом 1986-го он организовал побег группы заключенных через 35-метровый подкоп. Арестован через десять дней уже в Узбекистане, в Ташкенте. Янину было предъявлено обвинение по статье 194 ч.2 УК КиргССР (аналог ст.188 УК РСФСР, «побег из мест заключения») и он был приговорен к 5 годам лагерей с присоединением неотбытой части наказания по предыдущему приговору – всего 14 лет ИТК строгого режима (из них семь лет тюрьмы) и 5 лет ссылки.
Тюремный срок отбывал в Чистопольской тюрьме. Неоднократно устраивал голодовки. Дальше вспоминает уже Сергей Григорьянц, сокамерник Валерия Янина по Чистопольской тюрьме. «Я не помню, в чем было дело, но мы оказались в камере голодающих втроем с Толей Корягиным и Валерием Яниным… День на тридцатый или тридцать пятый нам в очередной раз делают искусственное питание, и начинаются — у всех троих начинаются — судороги. Мы просим термометр — оказывается, что температура сорок два градуса. Ну, естественно, дикие головные боли и так далее. Ну, Толя (Корягин) — врач. Естественно, сразу определил, что мы стали жертвами медикаментозного отравления. Нет, не думаю, что нас хотели убить, просто попугать». После Чистопольской тюрьмы Валерий Янин был переведен в в Пермский лагерь (Пермь-35,). В зоне устраивал голодовки, пытался покончить с собой, вскрыв вены на обеих руках, требовал освобождения всех политзаключённых, медицинского освидетельствования его травм, лечения, наказания виновных, возвращения украденных вещей, продуктов.
Освобожден из ВС 389/35 (Пермь-35) в сентябре 1991г. по Указу о помиловании президента Киргизии Аскара Акаева (последнее осуждение Янина было произведено судом Киргизской ССР). После освобождения жил в Москве, женился. 10 сентября 1993 года эмигрировал в США. Живет в Калифорнии.
В 70-80-е годы в Чистопольской тюрьме №4 сидело несколько литовских граждан, попавших за решетку за свои требования соблюдения Декларации прав человека ООН.
ПЯТКУС ВИКТОРАС АНТАНО. Литовский политический активист, советский диссидент. Родился 22 октября 1930 г. в деревне Александрай уезда Расейняй Литовской Республики. Во время немецкой оккупации, в 1944, будучи гимназистом, вступил в ряды подпольной антинацистской организации «Атейтининки», основал и возглавил в Расейняйской гимназии католическую молодежную группу, организовал поддержку узников еврейского гетто, распространял подпольную газету «Лайвес варпас» («Колокол свободы»).
В 1947 арестован. Осужден 8 апреля 1948 г. по ст. 58-10 ч. 1 — «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти» и ст. 58-11 — «Всякого рода организационная деятельность, направления к подготовке или совершению предусмотренных в настоящей главе преступлений». Приговорен к 5 годам исправительно-трудовых лагерей Срок отбывал во Владимирской тюрьме и лагерях Коми АССР. В 1949 бежал из лагеря, был пойман и 25 февраля 1949 осужден за побег еще на 10 лет. Отправлен отбывать срок в Минлаг (Коми АССР). После смерти Сталина в 1953 освобожден досрочно как совершивший преступление до наступления совершеннолетия.
По возвращении в Литву экстерном окончил вечернюю среднюю школу и перебрался из Расейняя в Вильнюс. Готовился к поступлению в духовную семинарию, однако не получил рекомендации местного настоятеля как бывший заключенный. В 1957 поступил на факультет литовского языка и литературы Вильнюсского университета, но той же осенью был отчислен.
25 декабря 1957 вторично арестован. Проходил по делу подпольной организации «Национальный фронт». Кроме общих обвинений в подготовке к созданию организации и вербовке членов в нее, Пяткус обвинялся в распространении эмигрантских изданий и участии в студенческой демонстрации в День поминовения. Приговор — 8 лет лагерей по ст.58-10 и 58-11 УК РСФСР. Срок отбывал в Озерлаге (Иркутская область), Дубравлаге и во Владимирской тюрьме. Отсидел весь срок полностью.
Освобожден 25 декабря 1965. Поселился в Вильнюсе, устроился лаборантом на медицинском факультете Вильнюсского университета. В 1968 вместе с группой медработников был на экскурсии в Риге, где произнес речь на Братском кладбище (о похороненных там латышах, павших в боях с Красной армией), в результате чего потерял работу. Через некоторое время был принят алтарником в костел св. Николая, где прослужил два года, затем работал техником в вильнюсской городской клинической больнице.
9 декабря 1975, накануне суда над Сергеем Ковалевым, был задержан в Вильнюсе на вокзале, куда пришел встречать Андрея Сахарова и других московских правозащитников, приехавших на суд. Подписал письмо в защиту Сергея Ковалева.
5 ноября 1976 по инициативе Виктораса Пяткуса в Вильнюсе была основана Литовская Хельсинская группа. Был одним из авторов и редакторов первых 12 документов и заявлений группы.
Пяткус вновь был арестован 23 августа 1977, при обыске изъяты документы ЛХГ и другая «подрывная литература». Пытаясь скомпрометировать Пяткуса как общественного деятеля следствие и суд помимо «антисоветской агитации и пропаганды» и «участия в антисоветской организации», предъявили ему два общеуголовных обвинения (гомосексуализм и вовлечение несовершеннолетних в пьянство). Верховный суд Литовской ССР , признав Пяткуса особо опасным рецидивистом, приговорил его по ст.68 ч.2, ст.70 ч.2, ст.72 УК РСФСР, ст. 122 ч.2, ст. 241 ч.3 УК ЛССР к 3 годам тюрьмы, 7 годам колонии особого режима и 5 — ссылки. Пяткус демонстративно не участвовал в процессе, даже приговор выслушал сидя. В день вынесения приговора к суду пришли около сотни человек, молодые люди раздавали цветы. Приговор вызвал протесты в Литве, других странах Прибалтики. Московская Хельсинкская группа выпустила документ №56 «По поводу приговоров А. Гинзбургу, А. Щаранскому, В. Пяткусу». В Западной Германии был создан Международный комитет защиты Виктораса Пяткуса, поддержанный Ватиканом, премьер-министром Швеции Улофом Пальме, ПЕН-клубом.
Заключение отбывал в тюрьмах № 2 города Владимир и № 4 города Чистополь Татарской АССР. Некоторое время содержался в камере вместе с Натаном Щаранским. Досиживал срок в отделениях особого режима лагеря Пермь-36 и Пермь-35.
На основании Указа ПВС СССР от 18 июня 1987 г. «Об амнистии в связи с 70-летием Великой Октябрьской Социалистической революции» неотбытый срок сокращен на одну треть.
21 августа 1987 г. этапирован в ссылку в село Богдарин Бурятской АССР. Был одним из последних литовских политзаключенных, требования о его освобождении звучали в ходе массовых гражданских акций в Литве. Освобожден досрочно осенью 1988.
После освобождения издавал еженедельную газету «Независимая Литва», опубликовал несколько книг. Почетный член английского ПЕН-клуба (1986). Президент Литовской ассоциации защиты прав человека.
Еще одним литовским «сидельцем» Чистопольской тюрьмы в 80-е годы был ЯНИС АПОЛЛИНАРИЕВИЧ БАРКАНС. Родился в 1959 году в городе Резекне Латвийской ССР. В 1978 году Янис Барканс намеревался вывесить латвийский национальный флаг на здании горкома компартии Латвии в городе Резекне, но 20 октября 1978 года у него дома был проведен обыск, Янис был задержан и вскоре отправлен в психбольницу Даугавпилса. Там его избили, сломав челюсть. 5 декабря 1978 года Янису Баркансу сделали предостережение, которое он отказался подписать. Юношеский максимализм привел его к мысли эмигрировать, перейдя границу с Финляндией. Яниса задержали в Выборге с картой, вырванной из школьного учебника, и дали ему 3 года по статье 190-1 (Распространение заведомо ложных измышлений, порочащий советский государственный и общественный строй). «В лагере он был малообщителен с администрацией, и пятерым уголовникам предложили его поучить. Каждый день Барканса избивали, подвешивали вниз головой, поливали ледяной водой, и через 20 дней он уже почти не дышал. Его вытащили в сарай, но на третий день дневальный обнаружил, что Барканс жив. Пришлось его отправить в тюремную больницу, где обнаружился острый туберкулезный процесс в легких, а так как были сломаны ребра, то и костный туберкулез», — из выступления Сергея Григорьянца (тоже «чистопольского сидельца», соседа Яниса по камере) на Первой международной конференции «КГБ; вчера, сегодня, завтра».
По освобождении Янис Барканс был госпитализирован в больницу для туберкулезных в городе Резекне. 25 августа 1982 года он направил в Президиум ВС СССР заявление об отказе от советского гражданства. Не получив ответа, Барканс 21 апреля 1983 года явился в паспортный стол и на глазах начальника порвал свой паспорт. Тут же был арестован. Янису Баркансу было предъявлено обвинение по ст.65 УК ЛатвССР (аналог ст.70 УК РСФСР). 13 июля 1983 года осужден Верховным судом ЛатССР. Приговор — 4 года ИТЛ. Срок отбывал в Дубравлаге ЖХ-385/3-5, затем перевезен в Пермь-36. Объявил о статусе перехода в политзаключенные. За неоднократные нарушения лагерного режима переведен в тюрьму №4 города Чистополь ТатАССР. После двойного срока в карцере (холодная одиночка с режимом питания 9б — через день жиденький супчик, в промежутках кусок хлеба с водой — два раза по 20 суток с перерывом на один день, подряд нельзя, процесс обострения вновь перешел в острую стадию.
«Было бы злостной клеветой, если бы я сказал, что Барканса не лечили. Каждый день приходил фельдшер и делал ему укол, поскольку сам Янис уже не вставал. Одна небольшая подробность. Мы оба с ним находились полгода на строгом режиме и получали через день миску каши, пустую похлебку и ломтик селедки, а на второй день только хлеб и воду. По официальным подсчетам это составляло 900 килокалорий в день, т.е. на 10 процентов меньше, чем в Освенциме, а на самом деле это было еще меньше, и лечение от туберкулеза Янису почему-то не помогало», — опять из выступления Григорьянца на конференции.
Можно сказать, что Янис Барканс уцелел случайно. Был уже январь 1987 года, в тюрьму приехал прокурор — надо было кого-то освобождать. Умирающий Барканс согласился написать просьбу об этом, и был срочно помещен в Казанскую больницу. Освобожден в феврале 1987 по помилованию.
От сумы, да от тюрьмы… (часть 19)
#нашчистополь #экскурсиипочистополю #чистопольскаятюрьма #музейполитическихрепрессий
Не следует считать себя неуязвимым, надежно защищённым от какого-либо несчастья…
Посмотрел уже написанное и понял, что рассказы о заключенных, сидевших в Чистопольской тюрьме, постепенно переросли в истории, в истории жизни в нашей стране. В истории поиска чести, достоинства, обретения свобод и прав человека, в истории попыток вырваться на свою историческую родину. Но были и другие зеки, тоже сидевшие по статьям, которые считаются политическими, только помыслы у них были другие — вырваться «за бугор», чтобы вдоволь наесться колбасы, пить кока-колу и «Мартини» и носить джинсы. Так они понимали свою свободу. Такие две истории вы сегодня услышите. Обе они связаны с попытками угона самолетов.
Июнь 1977 года — первый удавшийся случай угона воздушного судна за пределы СССР. Угонщиков двое — осужденные к принудительным работам и отбывавшие наказание за воровство в Медвежьегорске Карельской АССР на стройке народного хозяйства в ПМК №114 треста «Карельсельстрой» двадцатидвухлетний ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ ШЕЛУДЬКО и девятнадцатилетний АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ ЗАГИРНЯК.
Инициатором и организатором побега из СССР являлся Геннадий Шелудько, родившийся 14 февраля 1955 года в Таганроге Ростовской области, русский, образование 10 классов, холостой. Изучив расписание вылетов самолётов из Петрозаводского аэропорта «Бесовец», а также систему и порядок прохождения пассажирами специального контроля в аэропорту, Шелудько и Загирняк в июле 1977 года приобрели у учащихся Медвежьегорского ПИУ муляж гранаты Ф-1 (за восемь рублей) и документы, необходимые для приобретения авиабилетов ( «химикам» паспорта не положены).
4 июля 1977 года Александр Загирняк, выехав в Петрозаводск, купил на 10 июля по чужим паспортам в кассе предварительной продажи авиабилетов два билета на рейс Ту-134 Петрозаводск — Ленинград.
10 июля, при регистрации на посадку в аэропорту «Бесовец», угонщики объяснили, что они являются студентами одного из ленинградских ВУЗов, следующими к месту учёбы, где и находятся в настоящее время все их документы. Этих аргументов оказалось достаточно, чтобы угонщики были пропущены на борт самолёта по авиабилетам без документов. И, как выяснилось в дальнейшем, муляж гранаты Геннадий Шелудько спрятал в единственном предмете их багажа — корпусе портативного транзисторного радиоприёмника «Геолог».
Перед подлётом к Ленинграду, угрожая взорвать гранату, Шелудько через бортпроводницу объявил экипажу о захвате воздушного судна и выдвинул требование о немедленном изменении маршрута полёта в Швецию.
Через некоторое время самолёт приземлился в аэропорту Хельсинки Вантаа и был окружён машинами полиции, спецавтомобилями пожарной и медицинской помощи. Посадив самолет, экипаж смог покинуть борт лайнера через автономный выход из кабины. Наедине с угонщиками остались 70 пассажиров.
Лето, жара, температура в салоне повышалась, дети плакали, и угонщики распахнули грузовой люк, через который, ночью, пяти пассажирам удалось бежать, спрыгнув с высоты три метра на асфальт.
Вскоре к основной двери борта был подан трап и начались переговоры финских властей с угонщиками. Угонщики потребовали пива, еды и вылета в Швецию. Им объясняли, что Швеция не может принять ТУ-134 в военном исполнении (бред, но угонщики поверили), что им предоставят легкий самолет, если они отпустят женщин и детей. Переговоры длились больше суток. Угонщики постепенно отпустили пассажиров, в заложниках оставили только троих мужчин. Доставленные еда, пиво, а также бессонная ночь привели к тому, что когда финский спецназ пошел на штурм, он застал террористов спящими. В руке одного из них был муляж гранаты.
Через несколько дней угонщики были переданы финской полицией советским властям.
19 октября 1977 года «за измену Родине в форме бегства из СССР за границу путём захвата в полёте советского воздушного судна и угона его за границу под угрозой применения оружия» Шелудько Г. И. был осужден по статьям УК РСФСР: ст. 64 п.»а»; ст. 72; ст. 213/2 ч.2; ст. 40; ст. 41 и приговорён Ленгорсудом к 15 годам лишения свободы с присоединением 1 года 8 месяцев 7 дней (неистекший срок принудительных работ).
Загирняк А. Ф. был приговорен к 7-ми годам лишения свободы с присоединением 1 года. Оба они часть своего срока находились в Чистопольской тюрьме №4, в левом, политическом крыле второго этажа старого здания.
А вот вторая история, связанная с угоном самолета, и насколько же она непохожа на первую.
ИОСИФ МОЗУСОВИЧ МЕНДЕЛЕВИЧ родился в в 1947 году, в послевоенной Латвии, в городе Рига. Отец, Мозус Менделевич, был арестован в 1956 году в ходе антиеврейских процессов. Мать, Хая, заболела и скончалась. Школу не закончил, пошел работать токарем на заводе, одновременно обучаясь в школе рабочей молодежи. Участвовал в собраниях еврейской молодежи в Рижской синагоге. На воскресные поездки выезжал в Румбуле, приводили в порядок кладбища евреев, уничтоженных в Рижском гетто, участвовал в установлении памятника жертвам фашизма. В 1965-м создал «сионистскую» группу. Вместе с ее участниками проводил совместные вечера, лекций по истории, экономике, политике и культуре Израиля.
После окончания средней школы учился в Рижском политехническом институте. В 1968 году подал документы на выезд в Израиль. Получил отказ. летом 69-го направлен на психиатрическую экспертизу в связи с отказом призываться в ряды ВС СССР. Признан психически здоровым, но непригодным к военной службе. Работал инженером-проектировщиком.
В январе 70-го был избран редактором самиздатовского журнала «Итон».
В феврале 70-го вторично подал документы на выезд в Израиль, в июне получил вторичный отказ. В июне же его сестра Мэри вышла замуж за Арье Хноха. И в том же июне Иосиф Менделевич познакомился с Эдуардом Кузнецовым. План отъезда, вернее, побега в Израиль созрел быстро — угон самолета. Но угонять самолет с заложниками не решились. Было принято решение под видом поездки на свадьбу выкупить все билеты на рейс Ленинград — Приозерск, куда летел маленький пассажирский Ан-2 — «кукурузник», а затем, связав экипаж, за штурвал должен был сесть их приятель, Марк Дымшиц, в прошлом военный летчик. Границу с Финляндией планировалось пересечь на малой высоте, уйдя, таким образом от радаров, и, приземлившись в ближайшем аэропорту Финляндии, потребовать политического убежища.
Замысел провалился. 15 июня 1970 года, когда сообщники отправились в аэропорт «Смольное» под Ленинградом, на взлетном поле все они были взяты с поличным (орудиями теракта в виде веревок и кляпов для нейтрализации членов экипажа). Группа евреев-отказников в количестве десяти человек и двое примкнувших к ним русских диссидентов были арестованы.
Суд над угонщиками был открытым. Из подсудимых не смогли выбить раскаяния, а у слушателей к ним — ненависти. Всем присутствующим было понятно: люди просто хотят жить своей национальной жизнью, и что этой возможности в собственной стране они напрочь лишены. Может это и было причиной столь жестокого приговора за несовершенное преступление. 24 декабря 1970 года Ленинградский городской суд, в соответствии со статьями обв.: ст.70 ч.1 УК РСФСР, 15-64-А, 72, 15-93-1 УК РСФСР (»измена родине», «бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы», «пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений», а также «хищение государственного имущества в особо крупных размерах» ( «кукурузник» стоил в то время 56000 рублей, особо крупные размеры — свыше 50000 рублей, были времена), приговорил Марка Дымшица и Эдуарда Кузнецова к смертной казни. Иосиф Менделевич получил 15 лет заключения, остальные участники от 10 до 15-ти. Говорят, что только звонок Президента США Ричарда Никсона Леониду Ильичу Брежневу, содействовал замене приговора более мягким — 15 лет ИТК. В 1979 году Эдуарда Кузнецова, Марка Дымшица и еще трех диссидентов обменяют на двух советских шпионов, пойманных годом ранее в США.
Но, вернемся к Иосифу Менделевичу. В результате телефонного звонка президента США (слава телефонному праву), определением Верховного суда РСФСР от 31 декабря.1970 года срок Менделевичу был снижен до 12 лет. Отбывал срок в Дубравлаге, в котором его пытались привлечь к сотрудничеству с КГБ (результат предсказать несложно). В ИТК шил рукавицы, работал токарем, изучал иврит, английский язык. В 1973-м написал третье заявление о отъезде в Израиль, приложив отказ от советского гражданства. Не получив ответа, объявил бессрочную голодовку. В июле 1973-го переведен в лагерь ВС-389/36 у посёлка Кучино, Пермская область. В сентябре 1977-го объявил голодовку в день подписания Хельсинкских соглашений, отказался от работы в субботу. Попал в карцер, затем в помещение камерного типа (ПКТ). По выходу работал на разгрузке угля. Переведен в Пермь-37, сразу в ШИЗО (штрафной изолятор).
12 апреля 1977 года Свердловский областной суд «за систематическое сопротивление администрации» приговорил Менделевича дополнительно к 3 годам заключения с содержанием в тюрьме строгого режима. В июне 77-го переведен в Кировскую городскую тюрьму, затем во Владимирскую тюрьму. 8 апреля 1978 года вместе с Гилелем Бунтманом переведен в тюрьму №4 города Чистополь. Плел сетки для овощей, норма — восемь сеток в день. Участвовал в голодовках, проводимых политзаключенными в Чистопольской тюрьме. Через год переведен в Бугульминскую тюрьму. В 80-м Иосифа Менделевича вернули в «родную» зону — Пермь-36.
«Ленинградское» дело по угону самолета Ан-2, особенно невероятно жестокий приговор, привлекли внимание мировой общественности. Было понятно, что только отчаяние, связанное с запретом на выезд евреев из страны, толкает людей на такие поступки. Во многих странах проходили митинги в поддержку евреев-отказников, за декларированное право гражданина проживание в любой стране мира. Лидеры ведущих стран включились в поддержку политзаключенных в России. И в 70-х процесс пошел, евреев начали выпускать из страны и к концу этого десятилетия процесс принял массовый характер.
В 1981 году Менделевич был лишен советского гражданства и выслан из СССР. После приезда в Израиль продолжил активное участие в борьбе за демократические свободы в СССР.
В Израиле учился в ешиве, сдал экзамены на звание раввина. Получил степень магистра по еврейской истории и степень доктора еврейской философии. Автор нескольких книг.
Еще один участник этого «самолетного» дела ГИЛЕЛЬ ИЗРАИЛЕВИЧ БУНТМАН.
Родился в Ленинграде 11 сентября 1932 года, один из основателей сионистского движения 1960-х годов в СССР, организатор нелегальных ульпанов — подпольных школ иврита, учитель иврита.
Закончил юридический факультет ЛГУ. С 1957 года по 1960 год работал следователем уголовного розыска. Уволен «за связь с еврейской буржуазной националистической организацией». Позднее окончил Ленинградский политехнический институт.
В 1966 году создал в Ленинграде одну из первых сионистских групп, изучавших иврит и историю еврейского народа, боровшихся за право выезда в Израиль. Неоднократно получал отказы в выезде из СССР. В 1969 году поддержал предложение Марка Дымшица о захвате самолета для бегства из СССР группы евреев, которым власти отказывали в праве выезда на постоянное место жительства в государство Израиль; активно участвовал в подготовке акции на начальном этапе ее планирования, предполагая придать ей масштабный пропагандистский характер, способный вызвать большой международный резонанс.
Арестован 15 июня 1970 года и осужден по статьям 64 п. «а» — «Соучастие в преступлении — «Измена Родине», 70 ч. 1 — «Антисоветская агитация и пропаганда», 72 — «Организационная деятельность, направленная к совершению особо опасных государственных преступлений, а равно участие в антисоветской организации» и 189 ч. 1 — «Укрывательство преступлений» УК РСФСР. Приговорен к лишению свободы на 10 лет.
Заключение отбывал в Дубравлаге, Владимирской тюрьме и лагерях Пермь-35, 36. 8 апреля 1978 года вместе с Иосифом Менделевичем переведен в тюрьму №4 города Чистополь. Сидел в одной камере с Менделевичем. Из заключения писал заявления о нарушении прав заключённых, некоторые из которых попали в самиздат.
Из воспоминаний Натана Щаранского «Нас с Иосифом и Гилелем так и не поместили вместе, но вскоре они стали моими соседями: их перевели в смежную девятнадцатую камеру. Теперь мы могли пользоваться «унитазным» каналом связи. Надо было улучить момент, когда надзиратель находится в другом конце коридора или его внимание чем-то отвлечено, обменяться условным стуком и быстро осушить унитазы с помощью половой тряпки. Твой сокамерник встает у двери, загораживая тебя от глазка и прислушиваясь, не подходит ли вертухай, а ты, склонившись над унитазом, беседуешь с соседями. Говорить, естественно, следовало быстро: как правило, в твоем распоряжении не больше одной-двух минут, а если засечет надзиратель, то наказание — лишение свидания или карцер — практически неизбежно. (Унитазы смежных камер имели общий сливной сифон, через который, если его осушить, можно было расслышать голос говорящего в соседней камере).
Говорили мы с ребятами на иврите, и не только для того, чтобы нас нельзя было понять: беседовать здесь, в тюрьме, на нашем языке — в этом был особый смысл. К очередному разговору я готовился, как школьник к уроку, до предела упрощал фразы, чтобы передать все необходимое с помощью своей скромной ивритской лексики. Ответы моих друзей не только несли в себе информацию, но и служили материалами для очередного урока: я записывал новые слова и речевые обороты, а впоследствии заучивал их. До сих пор целый ряд ивритских слов я произношу с особым удовольствием, ибо они напоминают мне о Чистополе».
В 1979 году был досрочно освобожден и получил разрешение на выезд в Израиль. Освобождался из Чистопольской тюрьмы.
В 1973-м жена Гилеля, Ева, получила единственное свидание с мужем. Оно состоялось в потьминском лагере, «Дубравлаге», Через четыре месяца она получила разрешение на выезд в Израиль, и 14 декабря 1973 г. в Иерусалиме в больнице «Гадасса» родилась дочь Узника Сиона — Гилеля Израилевича Бутмана. Дочь назвали Геулой. Через 23 года в одном из архивов найдется стихотворение другого такого же «отказника», Йегуды Мендельсона, посвященное этому событию.
Рожденной свободной
Ева! Я дарю тебе этот стих…
Белый стих от чистого сердца,
Как ты подарила Израилю дочь,
Вторую дочь нашего Гилеля.
Сегодня он видит голубые сны
С далекой звездою на белом фоне,
Где переплелась голубая синь
Голубого неба и моря голубого.
В златоглавом городе его мечты
Родилась мечта его заключенья,
Его маленький кусочек жизни
От вашей такой необъятной любви…
Белела пороша декабрьской Потьмы,
Сверкая как новые его сединки,
Ощетинившись колючими искринками снега,
Индевелым железом колючей ограды
И примкнутыми штыками лагерной охраны…
А в снах голубых Хермон величавый,
Нахлобучив лихо снежную шапку,
Пускался в пляс, приглашая Кинерет
В честь новой жизни отгрохать Хору
И с облаками выпить «ЛЕХАИМ»
За новорожденную иерусалимку.
Под голубою бездонью неба
Ему согласьем кивали пальмы,
Шурша веерами на легком ветре…
Вы так решили в короткой встрече
В далекой Потьме, суровом крае.
И вот свободною в жизнь вступает
В Иерусалиме твоя дочурка.
Пройдут года, нелегкие годы.
И спросит крошка (как Лилечка) Еву:-
А где мой папа, всех в мире лучший?
Почему не гладит меня по головке?..
Пройдут года, тяжелые годы…
И в иллюминаторе самолета
Смешается синь голубого неба
С зеленосинью Средиземного моря,
С голубою дымкою Иерусалима
И с чистой слезою, глаза заволокшей
Голубые сны оборотятся явью
С нежными ручками маленькой дочки,
С бескрайним бездоньем глаз говорящих,
Боящихся высказать, что накопилось,
Чтоб ни за что не пролить ни капли
На каменных плитах аэродрома…
15 декабря 1973 г. Кибуц «Ашдот Яаков».
Почему за счастье жить на земле своих предков нужно было заплатить такую непомерную цену…
От сумы, да от тюрьмы… (часть 21)
#нашчистополь #экскурсиипочистополю #чистопольскаятюрьма #музейполитическихрепрессий
Не следует считать себя неуязвимым, надежно защищённым от какого-либо несчастья…
Было бы некорректно закончить рассказ о Чистопольской тюрьме, не упомянув еще одну категорию узников , возможно, одну из самых значимых. Это воры в законе.
«Воры в законе, (ворЫ) или законники— члены преступного мира, относящиеся к его элите и пользующиеся значительным авторитетом.
Воров в законе связывал так называемый «воровской закон», состоявший из «понятий», в число которых входили, в том числе, следующие:
— полное неприятие внешних общественных норм и правил;
— запрет на какое-либо сотрудничество в расследовании преступлений и на общение с сотрудниками правоохранительных органов ;
— неукоснительное следование воровским правилам и непрощение любого их предательства, ;
— запрет на занятие общественно полезным трудом, на занятие в исправительном учреждении административно-хозяйственных должностей;
— не иметь никаких долговременных связей с женщинами, запрещено иметь семью и поддерживать отношения с родными и близкими;
честное и уважительное отношение к другим равным членам воровского сообщества;
— поддержание в местах лишения свободы воровского порядка и разрешение всех возникающих между заключёнными споров;
— привлечение в воровскую среду молодого пополнения;
— полная аполитичность, запрет на воинскую службу, ношение полученного от власти оружия и защиту государственных интересов;
— умение хорошо играть в азартные игры и вовремя рассчитаться с выигравшим;
— запрет на совершение убийства, если его причиной не является защита воровских принципов и чести вора, а также на хулиганство и изнасилование.
В 1940-х годах эти традиции привели почти к полному уничтожению этого преступного сообщества: во время Великой Отечественной войны многие из «воров в законе» ответили согласием на предложение властей вступить в ряды Красной армии, чтобы защитить свою Родину от врага. После победы над Германией они вернулись в лагеря, где между ними и «законниками», не отступившими от традиций преступной среды, началась так называемая «сучья война», в результате которой обе сто́роны понесли значительные потери». (Из Википедии).
Конечно, нельзя считать их Робин Гудами, но и подонками, бандитами и шпаной они не были. Это были люди, которые жили по своим правилам, и правила эти нарушать было нельзя.
Их, авторитетных воров, сидевших в разное время в Чистопольской тюрьме №4, было немного, я насчитал всего шесть.
Кадамшоев Кадамшо Уфатшоевич (Памир), Казымов А. А. (Агашка Бакинский), Федоренко Василий Петрович (Василь), Христофоров Василий Александрович (Воскрес), Хубашвили Валерий Артемович (Валера Тифлисский) и Шишканов Олег Николаевич (Шишкан). Все они, за исключением Федоренко (Василя), были, если можно так сказать, «ворами новой формации», коронованными уже в постсоветское время.
А вот ФЕДОРЕНКО ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, он же Мацейко Василий Захарович, он же Василь, это вор старой формации, старейший вор в законе, выживший в «сучьей войне», к тому же последняя статья у него (1975 год) была политической — ст. 70 ч.1 УК РСФСР (призывы к совершению преступлений против государства. Публичные призывы к измене Родине, совершению террористического акта или диверсии)
Федоренко родился тридцатого марта 1928 года в Чернигове. С детства отличался буйным характером. Незаконными делами начал промышлять очень рано, однако в военные годы никому особо не было дела до мелкого хулигана, а вот уже по окончанию войны государство активно взялось за зачистку улиц от преступников. Уже в 1946 году Федоренко впервые оказался за решеткой на два с половиной года. А спустя три года получил статус вора в законе.
В общей сложности его судили более десяти раз. В его послужном списке присутствуют хулиганства, кражи, хранение оружия и даже призывы к изменению конституционного строя. Общий срок его пребывания в заключении — 42 года. За столько лет отсидки Василь смог побывать во многих тюрьмах страны, причем больше всего он пробыл во «Владимирском централе». В ноябре 1978 года оказался этапом с Владимирской тюрьмы в Чистопольской тюрьме №4. Интересно, что в комментариях к сайту «Полный список воров в законе» говорится, что в Чистопольской «крытке» в те годы был сравнительно «мягкий» климат.
В соответствии со своим статусом не работал ни дня. Через год был переведен в лагерную зону «Пермь-36». Освободился в сентябре 1989-го, отсидев полный срок.
Был в нашей тюрьме еще один авторитет, вор в законе, да такой, который «держал» всю Чистопольскую «крытку». Вот только ни в одном сайте не нашел о нем никаких сведений. Есть только свидетель его освобождения из Чистопольской тюрьмы, до известна его кличка, «погоняло» — Дипломат. Если удастся добраться до карточек заключенных — непременно напишу о нем. А пока — рассказ того самого свидетеля, который видел освобождение Дипломата. «Осенью 1976 года возле ворот тюрьмы стояли три черные «волги» ГАЗ-24 с номерами чужого региона. Из двери КПП вышел немолодой подтянутый мужчина с седыми уже волосами, одетый в темный костюм, белую рубашку с темным же галстуком и в начищенных черных ботинках. Обнявшись с встречающими, он сел в первую машину и уехал вместе с эскортом. «Это сам Дипломат», — с уважением произнес провожавший его надзиратель». Рассказчик, как вы могли догадаться, — Рафаил Хамитович Хисамов, преподававший в то время в школе для заключенных тюрьмы Т-4.
Начиная этот цикл рассказов о Чистопольском тюремном замке, Чистопольской тюрьме №4, я описал ее внешний вид, порядок и камеры, в которых содержались арестанты в начале XX века. Спасибо за эту возможность татарскому писателю, классику, Гаязу Исхаки, отсидевшему в ней два с половиной месяца и написавшего в ней повесть «Зиндан». Заканчивая свое повествование о Чистопольской тюрьме, я хотел бы рассказать о порядках и условиях содержания в камерах левого крыла второго этажа старого здания тюрьмы, там, где содержались политические заключенные. Благо, воспоминания о годах, проведенных в Чистопольском централе, оставили и Михаил Рифкин — «Два года на Каме» и Натан Щаранский — «Не убоюсь зла», да и другие политзаключенные не раз вспоминали время, проеденное в камерах для «политических».
Первый этаж — полуподвальный. Политических держат в левой части 2 этажа. Всего одновременно в политблоке содержатся не более 15–17 человек. Впрочем, есть среди них и те, кого правильнее было бы отнести к уголовникам, нежели к «политическим».
Вот заключенный вместе с сопровождающим поднимается по тем же самым ступеням, по которым шел Гаяз Исхаки, и сворачивает в левое крыло второго этажа. Перед ним узкий коридор, справа – из дальнего окна – в глаза бьёт свет. Череда деревянных дверей с глазками и внушительными железными замками. Есть камеры-одиночки, есть «двойки», «тройки», «четверки», одна даже шестиместная. Номера камер в политкрыле идут с 16-й по 24-ю.
Конвоир открывает одну из них. Обшарпанные, десятилетиями не крашеные стены, обычно две койки из сварных полос расположены в два этажа, третья – в стороне. Простынь нет, только наволочки, да тонкий матрац. Полы – деревянные. Окна забраны плотными жалюзи. Это, а также большая глубина оконных проемов в толстых стенах практически исключает общение между камерами. Туалет расположен в камерах, но воду в нем и в умывальнике включают лишь 4 раза в сутки — краны в коридоре.. Освещение очень тусклое, электричество не выключается даже днем, но и оно дает слабый свет. Стол — деревянная доска вдоль стены, бак, с питьевой водой, тумбочки для нехитрого скарба, вешалка, над столовой доской — радиоточка. В камерах репродукторы, подключенные к местной радиосети. Четыре часа в сутки идет местное вещание по-татарски. Остальное время – первая общесоюзная программа. Репродуктор включают в 6 утра, с началом вещания, и выключают в 9, по отбою. Подъем в 5.00, вскоре вслед за ним первая проверка, завтрак в 6– 6.15, в зависимости от того, с какой камеры начинают раздавать. В начале восьмого выводят на прогулку. Обед в начале двенадцатого. В три часа дня – вторая проверка, в пять – ужин, и в девять – отбой. Как правило, днем можно прилечь на нары, к этому относятся спокойно. Но если кого-то начинают преследовать, то именно от него требуют немедленно подняться каждый раз, как надзиратель заглянет в глазок.
Летом в камере духота страшная, движения воздуха почти нет. Зимой – очень холодно. Все время, пока не работаешь, приходится сидеть в бушлате. Ночью наваливаешь на себя тот же бушлат и вообще все теплые вещи, которые у тебя есть, только так удается немного пригреться и заснуть.
По официальным данным суточная калорийность тюремного рациона 2334 ккал.
При нарушении правил могут перевести на строгий режим. Это, во-первых, пониженное питание. Пайка хлеба 400 гр, а не 500, как на общем. Сахара не дают вообще. На завтрак – тот же черпак каши, что и на общем. На обед – суп без мяса и жиров. На ужин каши не дают вообще, а дают только какую-то соленую мелкую рыбешку, состоящую в основном из костей и головы. Во-вторых, на строгом в течение всего срока прогулка 30 мин., а не час и ларек 3 рубля в месяц, а не 5, как на общем. В-третьих, свиданий и бандеролей не полагается вообще (на общем тюремном раз в год полагается бандероль и два раза в год – короткое свидание).
При усугублении противостояния надзиратель — заключенный, могут назначить пребывание в карцере.
«Карцерные камеры находятся на первом этаже. Слева по коридору, в самом конце, одна довольно большая камера – это карцер для политических. Часто она бывает занята, тогда узника помещают в карцер для уголовников, справа по коридору. Это угловая камера, разделенная перегородками на восемь пеналов. Угловой пенал самый холодный, так как примыкает к внешней стене и еле отапливается. Это было узенькое помещение, шириной чуть больше метра, настоящий пенал. У наружной, «холодной», стены – нары, которые опускали только на ночь. В полу у двери – очко канализации, на котором можно было присесть «по-орлиному». И больше ничего. Стены и низкий потолок – цементная «шуба», пол каменный. Под потолком – крошечное окошко, точнее, какая-то вентиляционная отдушина. Свет через нее не проникал даже в полдень, и потому лампочка в карцере горела круглые сутки. Да и воздух почти не проходил. Батареи в камере не было, но проходила вертикальная отопительная труба, а от нее – горизонтальная, в соседние камеры. Сначала я пытался к той трубе прижиматься и так греться, но потом понял, что прыжки по камере согревают лучше.
Ни бушлата, ни каких-то теплых вещей в карцер брать нельзя. Заключенному в карцере оставляют только стандартную зэковскую курточку и штаны из легкого хлопчатобумажного материала. Питание в карцере такое же, как в первый месяц строго режима, с той разницей, что еду дают через день, на следующий день выдадут только пайку хлеба (400 г) и кипяток. Нары опускают только на ночь, и в открытом виде они занимают по ширине почти всю камеру. Днем нары закрыты на замок. Ни одеяла, ни подушки, разумеется, нет.
Политический карцер в Чистополе один, находится он в конце коридора, слева. Он раза в два больше чем тот «пенал», где я сидел до тех пор, и, главное, намного теплее. Там деревянный пол и есть настоящая батарея, хотя и скрытая решеткой, но какое-то тепло от нее все же идет. Есть маленький столик, куда можно поставить миску. Есть и окно, под самым потолком, но все же какой-то свет через него проникает». Из воспоминаний Рифкина.
«Производство в тюрьме разнообразное: металлообработка, пошив детской обуви, сборка механизмов ручных часов. Политзаключенные плетут вручную из нейлоновой нити мешки-сетки для картофеля. Норма — восемь сеток день. Работают непосредственно в жилых камерах. Дневная норма трудновыполнима. За практически выполнимую половинную норму заключенный получает в месяц 16 рублей, из которых 13 автоматическим вычитается за питание. Остающиеся 3 рубля могут быть использованы на покупку продуктов в ларьке.
В библиотеке примерно 200 книг. В камере можно держать 5 книг. (Рифкин читал «Флорентийские ночи» Цветаевой, Сергей Григорьянц — Достоевского, «Записки из мертвого дома»). В ларьке отоваривают дважды в месяц. Из продуктов продают хлеб, творог, молоко, маргарин, конфеты, плавленые сырки. Администрация разрешает использовать на «ларек» только деньги, заработанные в тюрьме.
Свидания проводятся в административном корпусе через стеклянный экран, разговор ведется по телефону. По сравнению с Владимирской тюрьмой резко усилены строгости почтовой цензуры, право переписки практически сведено на нет. Запрещено получение телеграмм и открыток без текста. Практически (за редкими исключениями) под запретом отправка и получение зарубежной корреспонденции. Хранить письма в камере нельзя.»
Из воспоминаний Натана Щаранского.
«Нас, политиков, тюремщики не трогали, хотя удержаться от такого соблазна им было наверняка нелегко, ведь приходя к нам из другого конца коридора, где они только что орудовали кулаком и дубинкой, надзирателям приходилось переключаться на человеческий язык, забывать о мате и обращаться к нам на «вы». Мы прекрасно понимали: если хоть раз позволим им переступить черту и ударить политика — статус кво невозможно будет восстановить. Такое нельзя оставить безнаказанным…Проявить солидарность с теми, чьи права нарушены, естественно для свободного человека. Целая серия тюремных инструкций направлена на то, чтобы помешать тебе в этом: категорически запрещены связь между камерами, коллективные письма, заявления в защиту другого зека… В таких условиях поддержать товарища забастовкой или голодовкой — дело опасное, однако совершенно необходимое, если ты хочешь остаться в тюрьме свободным человеком».
Голодовок в Советском Союзе не было. Был отказ от приема пищи по хулиганским побуждениям. «Вести из СССР» (1984 год, №1). «В День политзаключенного в СССР 30 октября 1983 в Чистопольской тюрьме голодало 13 чел.: А.Корягин, Г.Алтунян, А.Щаранский, М.Никлус, В.Пореш, В.Калиниченко и др. После этой голодовки А.Корягин, Г.Алтунян и ряд других были переведены на 2 мес. на строгий режим». Кстати, при отказе от пищи заключенным составлялось заявление, в котором он указывал срок и причины отказа. Тогда это был документ, который попадал в отчетность тюрьмы и требовал разбора.
Еще раз подчеркну: диссиденты 60-80-х пытались бороться за соблюдение основного закона страны — Конституции: за свободу слова, свободу собраний, свободу передвижений, свободу самоопределения республик, за те права, которые были декларированы в Конституции.
Из выступления Петра Григоренко на партийной конференции ленинского р-на города Москвы в 1961 году: « …Усилить демократизацию выборов и широкую сменяемость. Необходимо прямо записать в программу (партии) – о борьбе с карьеризмом, беспринципностью в партии, взяточничеством».
Из материалов следственного дела Петра Григоренко:
Вопрос. «Петр Григорьевич, все же непонятно. Вы – генерал, начальник кафедры в такой прославленной академии, получали более 800 рублей, кандидат наук с готовой докторской диссертацией. Перед вами широкий путь для продвижения — чего же вам не хватало?
Ответ. «Дышать мне нечем было».
Заключение психиатра: «Дает неадекватные ответы».
В них не было злости, они не желали смены общественного строя в стране, они просто хотели жить как свободные люди, и боролись доступными им средствами именно за это.
Когда на одном из первых заседаний «Мемориала» было высказано мнение начать процессы против тех, кто гнобил их в тюрьмах и лагерях, встал Андрей Дмитриевич Сахаров:
«Не надо… Не надо… Не надо снова по этому кругу»…
Цикл статей о чистопольской тюрьме выражает мнение автора. Спасибо администрации СИЗО №5, разрешившей съемку в Музее Чистопольской тюрьмы и за предоставленные некоторые сведения. Особая благодарность старшему научному сотруднику Музея Пастернака Рафаилу Хамитовичу Хисамову, беседы с которым были просто бесценны. Фотографии взяты из открытых источников и из Музея СИЗО №5:
Фото из книги серии «Чистополь литературный» «Зиндан» Гаяз Исхаки. Камера в Чистопольской тюрьме: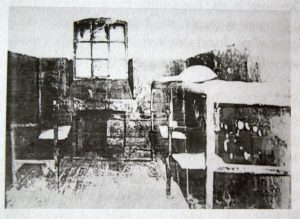
Фото из книги серии «Чистополь литературный» «Зиндан» Гаяз Исхаки. То, что осталось от церкви Преображения Господня в тюремном замке города Чистополь: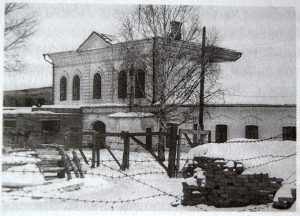
Всемирный день Театра? ОК!
#нашчистополь #экскурсиипочистополю
Как-то неожиданно выяснилось, что сегодня, 27-го марта, Всемирный день Театра. Что ж, хорошо, вот вам к празднику история об одном из театров нашего Чистополя.
А вы знали, что в нашем Чистополе во время войны был Городской Кукольный театр? Назывался, конечно, «Петрушка». Вот документы.
5 июня 1942 г.
Москва
В Политуправление РККА Копия: оборонная комиссия
№4-56 Союза советских писателей СССР
Союз советских писателей СССР, направляя Вам заявление руководителей и организаторов
народного театра «Петрушка» (тт. Злобиной, Синяковой и Шамбадал), сообщает следующее. Театр кукол «Петрушка» возник в 1942 г. в г. Чистополе по инициативе названной группы и писательского объединения ССП. Первые спектакли «Петрушки» нашли хорошую встречу у публики и обнаружили, что художественный руководитель (Злобина), художник (Синякова) и автор пьес (Шамбадал) представляют собой группу, вполне квалифицированную и одаренную для самостоятельного создания интересного кукольного агитационного театра, способную в кратчайший срок выработать программу, сделать куклы, обучить кукловодов и поставить спектакли, весьма ценные для широкой публики.
Нижеподписавшиеся члены президиума и Правления ССП СССР поддерживают предложение названных товарищей-организаторов «Петрушки» и просят привлечь их к оборонной работе ПУРККА.
Члены президиума ССП СССР и Правления ССП СССР
Асеев, Федин, Тренев
Приложение. Письмо X.С.Злобиной, М.М.Синяковой-Уречиной, М.А.Шамбадала
в Политуправление РККА об организации агитационного народного театра «Петрушка»
[Ранее 5 июня 1942 г.]
Чистополь
В Политуправление РККА
Копия: оборонной комиссии
Союза советских писателей СССР
Москва
В 1942 г. в г. Чистополе ТАССР основан народный театр кукол «Петрушка».
По замыслу его основателей «Петрушка» является театром агитационным, злободневным и остро политическим. Его задача — откликаться на важнейшие события, которыми живет наша страна, внушать непримиримость к фашизму, бить по отсталости,косности, вредному благодушию, средствами народного искусства агитировать за претворение в жизнь первомайского приказа товарища Сталина. Театр должен отмечать успехи соцсоревнования на предприятиях, работу тыла по обслуживанию фронта и другие достижения и хорошие качества, как, например, это сделано в пьесах Шамбадала «Вася Теркин в Чистополе», Афанасьева в переделке Злобиной «Бабушка партизанка» и других.
Программа театра была встречена зрителем с интересом и одобрена Комитетом по делам искусств Татарии. Однако этот успех послужил тому, что театр «Петрушка» закреплен городом КАК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР КУКОЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ в г. ЧИСТОПОЛЕ.
Между тем творческая группа, по мысли и инициативе которой возник этот театр, состоящая из художественного руководителя Злобиной, художницы Марии Синяковой и литератора Шамбадала (дед Камчадал), хотела бы применить свой опыт и творческие замыслы в более широком плане, представляя себе «Петрушку» как театр разъездной, обслуживающий большую территорию.
Идея старинного русского Петрушки, который всегда являлся понятным образом, выражающим народные чувства, может быть особенно жизненный в условиях Отечественной войны. Быстрый отклик на события, несложность сценического оформления, быстрота и легкость передвижения, организация спектакля на любом нужном месте, в любых условиях — все это делает «Петрушку» пригодным для обслуживания госпиталей, воинских частей, сборных пунктов, фронтовой полосы, освобожденных от оккупантов местностей и промышленных предприятий.
Мы просим предоставить нам возможность осуществить нашу идею передвижного народного театра «Петрушки», прикрепить его к Политуправлению РККА в виде самостоятельной театральной группы.
Организационная творческая группа состоит всего из трех человек:
1.ЗЛОБИНОЙ X. С. — художественный руководитель театра и режиссер. Тов. Злобина-Спевак является автором картины «Салават Юлаев», радиопьес «Степан Разин», «Броненосец Потемкин», «Пионерии» и ряда других. До 1931 г. работала актрисой, с 1932 г. — консультантом по пропаганде стандартизации и в кино, и по радио.
2.СИНЯКОВОЙ-УРЕЧИНОЙ Марии Михайловны-художницы, члена МОССХа. Работала как иллюстратор-художник в издательствах «Молодая гвардия», «Советский писатель», «ГИХЛ», «Академия» и художественных журналах. Иллюстрировала книгу Маяковского «Облако в штанах» и сборник избранных стихотворений Маяковского. Последняя работа в Москве — в издательстве «Советский писатель» — книга Асеева
«Маяковский начинается». Работала в Театре обороны как декоратор и в течение шести лет работала на фабрике «Диафильм» иллюстратором детских сказок; в Ленинградской фабрике «Техфильм» оформляла картину «Сельскохозяйственная Московская выставка».
3.ШАМБАДАЛ (дед Камчадал) — писатель, член Союза советских писателей.Михаил Абрамович Шамбадал литератор-переводчик, журналист, работник радиовещания в Москве с 1926 по 1932 г., автор фельетонов-райков по передачам для села, «Рабочего полдня», «Пионера», «Комсомольской правды», листка РКП и других. Печатался в «Комсомольской правде», «Молодом ленинце», «Рабочей Москве», «Смене», «Лапте», «Красном перце» и других. Перевел Шолом Алейхема, Менделе Мойхер Сфорима и многих современных еврейских писателей (проза и драматургия). В данное время работает фельетонистом-раешником на Чистопольском радиоузле. Пишет на международные и политические темы.
Просим вызвать нас в Москву для скорейшей организации агитационного, народного театра «Петрушка» в системе постоянных оборонных мероприятий ПУРККА.
Злобина-Спевак,
М. Синякова-Уречина,
М. Шамбадал
РГАЛИ. Ф. 631. On. 16. Д. 96. Записка: Л. 111-111 об. Автограф. Синие чернила;
Письмо: Л. 112-113. Подлинник. Машинопись.
На злобу дня, конечно, театр-раешник, но эта форма была востребована в годы войны, как никогда. Немного о создателях кукольного театра «Петрушка».
Хана (Галина) Самойловна Злобина — Степак, которую называют руководителем театра. Первая жена известного писателя, руководителя секции исторической литературы ССП СССР Степана Павловича Злобина. Среди его книг романы «Салават Юлаев», «Степан Разин», (Сталинская премия первой степени, 1952 год), «Остров Буян» и «Пропавшие без вести». Последний был создан из неопубликованной рукописи «Восставшие мертвецы», в которой Степан Злобин описывал свои мытарства по немецким лагерям для военнопленных, куда он попал после боев под Вязьмой в октябре 41-го. Тогда, в начале октября во время боев за Москву, войска двух фронтов — Западного (Иван Конев) и Резервного (Семен Буденный) не смогли сдержать натиск немецких войск и открыли дорогу на Москву. Линию фронта восстанавливали с помощью курсантов военных училищ и ополченцев, в их числе была и «писательская рота». Потери убитыми и ранеными Красной Армии в «Вяземском котле» превысили 380 тысяч человек; в плен попало свыше 600 тысяч человек, среди нах и Степан Злобин.
Во время боев под Москвой его жена, Галина Злобина-Степак уже находилась в Чистополе. О ней мало что известно, она даже не упоминается ни в перечне Чистопольской писательской колонии, опубликованном Музеем-заповедником, ни в энциклопедии «Литературный Чистополь». Можно сказать, что Галина Степак — новый персонаж среди эвакуированных в Чистополь работников искусства. В 1940 году в соавторстве с мужем написала сценарий к игровому фильму «Салават Юлаев», поставленного режиссером Яковом Протазановым, это имя вы наверняка помните. В Чистополе же в интернате для сотрудников ССП, находился и их одиннадцатилетний сын — Наль Злобин.
Михаил Абрамович Шамбадал, советский литератор, переводчик, журналист, фельетонист, поэт. В Чистополе, на радио, он работал под псевдонимом Дед Камчадал. О нем опубликовано много воспоминаний. Наибольшую известность Шамбадалу принесли переводы с идиш. Правда, чистопольские авторы обычно пишут, что Шамбадал снискал славу как фельетонист. Может быть, может быть. Но, все-таки благодаря ему мы сегодня читаем «Тевье-молочника» Шолом-Алейхема, а не его фельетоны. В Чистополе находился во время эвакуации, прибыв осенью 41-го одним пароходом с Пастернаком. Уехал в начале осени 43-го, одним из последних. Его жена, Лидия Ивановна, и трое детей еще летом 41-го выехали в берсутский дом отдыха, превращенный в пионерский лагерь. В Чистополе жили на Бебеля, дом 130. Жили очень тяжело, к тому же Михаил Абрамович по приезде в Чистополь перенес воспаление легких.
Публиковался в местной газете «Прикамская коммуна», выступал на радио со стихотворными фельетонами собственного сочинения. Это и его заслуга в том, что Чистопольский радиоузел во время войны был признан лучшим среди других радиоточек Татарии. Излюбленной темой Шамбадала была деревенская тематика. Материал всегда собирал сам, каждый день с раннего утра отправляясь в поход по ближайшим деревням и селам. Тулуп и валенки поначалу были редакционные, не было у Деда Камчадала своей теплой одежды. Главный редактор Чистопольского радио Надежда Чертова вспоминала: «Дымя махорочной самокруткой и покашливая, Михаил Абрамович обрабатывал деревенский материал о колхозных делах, писал на деревенскую тему фельетон или раешник с профессиональным умением, остроумием, по-доброму насмешливым и читал на радио».
Чтобы вы понимали, насколько силен был контроль со стороны партийных и советских органов, расскажу один случай, о котором я прочел в «Новостях культурной жизни Израиля». Однажды Михаил Шамбадал читал по радио рассказы Шолом-Алейхема, которые перевел с идиша на русский. В студии во время чтения раздался телефонный звонок — звонила председатель чистопольского горсовета Мария Тверякова. Раздраженным голосом она приказала: «Прекратить это чтение. Что вы мне тут антисемитизм разводите!» Ей стали объяснять, что читаются произведения великого классика, и никакого антисемитизма тут нет, что читает еврейский писатель, но Тверякова ничего не слушала. А Шамбадал написал после этого эпиграмму:
Мария, бедная Мария!
Краса прикамских дочерей,
Не знала ты, какого змия
Пригрела на груди своей.
Для кукольного театра «Петрушка» Шабадалом были написаны несколько пьес: «Василий Теркин в Чистополе», «Противогаз», «Кого нам не надо».
И самый загадочный и самый удивительный член маленького коллектива кукольного театра — художник Мария Михайловна Синякова-Уречина, одна из пяти сестер Синяковых, которых на заре XX века называли музами авангарда. Это они были в числе основателей движения «Долой стыд!», эпатируя добропорядочную публику своим одеянием, вернее полным отсутствием такового. Четыре сестры — Оксана, Вера, Надежда и Мария жили во время эвакуации в Чистополе, в доме по Володарского, в том, где проживал Николай Асеев, за которым Оксана была замужем. Младшая, Вера, была замужем за Семеном Гехтом, который в декабре 41-го добился призыва в ГлавПУР РККА. (Правда, в 44-м его посадили. За пораженческие настроения. Дали 8 лет лагерей). Сестер так и называли — четыре грации.
Итак, Мария Синякова — художник-график, книжный иллюстратор, представительница русского и украинского авангарда. Московскую квартиру, которую снимали сестры Синяковы посещали Владимир Маяковский, Николай Асеев, Велимир Хлебников, Борис Пастернак. Позже, в 20-х годах, ее работы выставлялись на одних выставках с работами Гончаровой, Ларионова, Бурлюка, Малевича. Тогда же она создала серию шаржированных портретов известных в то время, да и в наши дни, поэтов и писателей. Кроме Маяковского и всех футуристов в серию вошли портреты Валерия Брюсова, Анны Ахматовой, Сергея Есенина, Игоря Северянина, Андрея Белого, Ильи Сельвинского и других. Среди ее работ иллюстрации к сборникам «Облако в штанах» Маяковского, «Новые загадки» Корнея Чуковского, «Песенник» Николая Асеева. А поэма Асеева «Маяковский начинается», которую Мария Синякова иллюстрировала, получила в 1941 году Сталинскую премию первой степени, отодвинув сборник стихов Анны Ахматовой. Вместе с российскими и украинскими неопримитивистами участвовала в многочисленных советских и зарубежных выставках: «Выставка художников «4 искусства» (1925, Москва, Музей изящных искусств), «Международная выставка «Искусство книги» (1927, Лейпциг), «Современное книжное искусство на международной выставке прессы в Кельне» (1928), «Международная выставка «Искусство книги» (1931, Париж). Затем война, эвакуация,Чистополь, художник кукольного театра.
После возвращения в Москву творческая биография Марии Синяковой прерывается на длительное время. В 1952 году Синякову исключили из Союза художников за «пресмыкательство перед западным искусством». Она была лишена возможности участвовать в выставках, иллюстрировать книги. Ей приходилось раскрашивать игрушки, работать на полиграфической фабрике, делать плакаты для нового университета, рисовать лекарственные растения к медицинскому атласу.
В 1958 году её членство в Московском союзе советских художников было восстановлено. В сентябре 1969 года состоялась единственная прижизненная персональная выставка графики Марии Синяковой, которую организовало киевское отделение Союза писателей . Еще более чем через 20 лет, в 1990 – 1991 годах, на выставке «Украинский авангард. 1910 – 1930», показанной в Загребе и Киеве, впервые демонстрировались работы Марии Синяковой 1914 – 1916 годов: «Ева», «Карусель», «Война». В 2002 году в Санкт-Петербурге прошли сразу две выставки, на которых были представлены работы Марии Синяковой-Уречиной. В Музее Новой Академии изящных искусств открылась выставка «Герои русского авангарда», где были представлены, наряду с литографиями Синяковой, вышитые на бархате иконографические портреты Марины Колдобской, а в музее-галерее Новый Эрмитаж на выставке «Русский авангард 10-х и 60-х» были представлены акварели Синяковой. Можете себе представить. что, возможно, где-то там, в старой мастерской, под самой крышей здания аптеки Ковалевского, бывшего во время войны Литературным клубом эвакуированных писателей, в котором и проходили спектакли кукольного театра «Петрушка», среди хлама, могут находится эскизы и куклы, выполненные художником, чьи работы сегодня ценятся на аукционах наравне с работами Малевича, Кандинского, Гончаровой, Филонова.
С Днем Театра, господа!
А закончить пост хочу словами Пейсаха-Михеля Шамбадала — это настоящее имя чистопольского Деда Камчадала: «Сочинитель прощается с вами, добродушно смеясь, и желает вам, чтобы и евреи, и все люди на земле больше смеялись, нежели плакали…»:
Повторенье — мать ученья. Весна?
#нашчистополь #экскурсиипочистополю #ледоходнакаме
Вновь весна, вновь ледоход, впереди лето, новые поездки по окрестностям, новые и старые экскурсии. Снова пойдут разговоры о разработке новых туристических маршрутов, продвижению старых традиций. Чего их выдумывать, о старом-новом маршруте — «Тропа Джукетау», это от стадиона до городища, писал прошлой осенью. Мне ответили, что проходимость низкая. Да сейчас она вообще нулевая, так как тропа разрезана выемкой новой дороги, не пройти, а пешеходный переход со смотровой площадкой (оттуда такие виды!) конечно, дорого.
Или вот была когда-то такая традиция: собираться на поляне, на мысе Крутой горы, чтобы оттуда увидеть завораживающее зрелище ледохода. Чего ее, эту традицию, продвигать, посмотрите сами. Только лень снова описывать эту красоту. Скопировал пост четырехлетней давности, не обессудьте. Фотографии только сегодняшние. Не утерпел, съездил, посмотрел.
Купеческая площадка.
У моего папы была поговорка: «Как украли…», это когда среди сплошного ненастья выпадает солнечный денек, и ты успеваешь сделать в этот день все, что задумал. Так вот, вчера в этот украденный у природы день я, наконец-то, смог добраться до «Купеческой площадки», чтобы посмотреть ледоход. Еще накануне стояла сырая ненастная погода, и я подумал, что в этом году опять не удастся давно задуманная прогулка. А сегодня, вообще, вновь выпал снег, так что вчерашний погожий день, по меткому папиному выражению, у погоды я просто украл. Эту площадку мне показал Георгий Иванович Лыков прошлым летом во время наших прогулок по окрестностям Чистополя. По рассказам старожилов, была у наших купцов такая традиция — смотреть ледоход на Каме с открытой площадки на обрывистом берегу Крутой горы. Приезжали на своих пролетках, экипажах и, даже, говорят, фаэтонах, все по чину, все по достатку. Приезжали семьями, большими кампаниями, иногда с едой, устраивая пикники. На просторной поляне звучал громкий детский смех, и слышались взволнованные окрики матерей: «Васечка, забери, скорее Настю от обрыва! Михаил, говорила же тебе. что не следует брать с собой детей, здесь опасно и прохладно!» Высокий обрывистый мыс висит, кажется, над самой рекой, страшно подойти к краю, чтобы посмотреть вниз, на ворочающиеся и скрежещущие по берегу льдины. А вид с огромной поляны, раскинувшейся на высоком берегу, открывается просто удивительный! Многие километры камского простора можно окинуть взглядом. Можно увидеть и синеющий вдали лес, подступивший вплотную к правому берегу Камы, и отметить запутанную сеть проток и озер на пути к этому лесу, и охнуть при виде крутого поворота реки, совершенно незаметного с нашего, городского, левого берега, и подивиться дремучести заросшего дубами и липами леса, что тянется вдоль излучины реки по береговым террасам от просторной поляны и до самого города. Можно увидеть стрелку мыса, оберегающий чистопольский затон, созданный самой природой, вернее камским притоком, Простью, от бушующей при северных ветрах реки. Заметить, как отбойное течение отгоняет от правобережных островов вытянувшийся сплошной полосой ледяной поток. А чего стоит вид на наш Чистополь образца начала двадцатого века! Колокольни Никольского собора, Успенской и Спасской церквей белеют на фоне сапфирового неба. Правее, над панорамой одноэтажных домиков на Ново-Казанской, крыши которых еле виднеются за шапками садов, высится красная стрела колокольни церкви Иконы Казанской Божией Матери. Вдали можно разглядеть обе пожарные каланчи, что стояли на зданиях присутственных мест и почтово-полицейского ведомства. Едва различимые в береговой дымке, вдоль хлебных пристаней вытянулись зерновые амбары, опустевшая за зиму лесная пристань готовится к новому приему бревен. Расторопные молодцы наводят «марафет» на пассажирские пристани, что стояли пониже Берняжки до самого причала «Нефтяной компании». А над пассажирскими пристанями красуется просторными террасами ресторан «Наследников А.В. Александрова», тот, который в народе звали попросту — «у Александрова», и который и в зимнее время ни на день не прекращал свою работу.
Окинув быстрым взглядом привычную картину, перекрестившись на купола и наказав вертящимся под ногами ребятишкам пересчитать колокольни церквей, чистопольское купечество, с опаской поглядывая на кружащиеся под ногами льдины, прикидывало уровень поднявшейся воды, вспоминало народные приметы, стараясь угадать вероятность хорошего урожая — основы их благополучия, благополучия всего города. Жены, меж тем, покрывали привезенные столы льняными скатертями, доставали из повозок домашнюю снедь, расставляли среди банок с хрустящими огурчиками, янтарными солеными рыжиками, мисок с ломтями ветчины, хлеба и напластованных окороков, это если пасха ранняя, в другой год копченой да вареной рыбой приходилось обходиться, расставляли бутылки с домашними наливками и хлебным вином, водкой, по нашему. Детишки разбрасывали по прошлогодней жухлой траве разноцветные брызги крашеной скорлупы от оставшихся с пасхи яиц, поднимался легкий дымок над самоварными трубами, слышался неторопливый разговор отдыхающих от работ мужчин — пришел в Чистополь весенний праздник ледохода.
А река под ними ворочала льдины, громоздила их в огромные кучи на пологих песчаных берегах, собирая их там в причудливые торосы, заталкивала на песчаную косу, что ютилась посреди реки, тянула со стрежени поближе к спокойному берегу, чтобы забить этим льдом освободившуюся заводь. Сужающаяся к Крутой горе река, набирала скорость, разгоняла льдины, чтобы с грохотом столкнуть их в страшном противодействии с могучим потоком. Под горой стоял несмолкающий треск разламывающихся в столкновении ледяных пластов, хруст обдираемых шуршащих колких боков, плеск льдин, низвергаемых с нагроможденных рекой прозрачно-белых штабелей. Наконец, миновав бутылочное горло реки, искрошившийся, потерявший в битве свою темную прозрачность, лед вырывался на свободу и растекался по широкому плесу:
#Нашчистополь #дворынашегодетства #экскурсиипочистополю
Один из моих подписчиков как-то написал: «Очень я люблю Чистополь, людей, конечно же, прежде всего, всех, и хороших и плохих. Люди и города строили, и наличники и слуховые окна делали, и рябину у дома сажали, всё люди…Если будет желание и вдохновение, сделайте, пожалуйста, пост про изнаночную сторону Чистополя: многие видели улицы центральные с лица, а мне интересно, как они выглядят с другой стороны; во дворах и с задов. Только не с тем, чтоб показать плохое, а с любовью». Ну, я, даже рассказывая о бедах и проблемах нашего Чистополя, все равно делаю это с любовью к нему.
А корреспондент мой — интереснейший человек. Как же красиво он рассказывал о своем увлечении голубями! Сегодня ему сложно приехать в наш город, поэтому, Рустам, выполняю твою просьбу.
Хотя, надо признаться, Рустам задал мне практически невыполнимую задачу. Тех дворов, дворов нашего детства сегодня найти невозможно, они исчезли. Состоятельные горожане, жившие на Екатерининской, Дворянской, Архангельской-Базарной, были чрезвычайно практичными людьми. Каждое пространство собственной усадьбы они старались использовать с пользой. Их усадебные дома, как правило, были выведены на проезжую часть узким фасадом в четыре, а то и в три окна. Это, если дома стояли на Екатерининской. Архангельская-Базарная преимущественно была застроена торговыми лавками — одноэтажными зданиями с большими окнами и проездом внутрь двора. К домам примыкали хозяйственные службы, конторы. Во дворах устраивались жилые флигеля, хлебные скупки, ставились амбары, строились крупорушки и маслозаводики. Кое-где во дворах можно было найти постоялый двор. Во дворах располагались колодцы, конюшни, ледники,сеновалы и, конечно, нужники. Так во дворе мог вырасти целый городок из жилых, производственных, складских и вспомогательных построек. Многие крепкие дворовые здания со временем превратились в коммуналки, и, по расселению жильцов, были снесены, навсегда изменив вид чистопольского двора. Это большая беда. К тому же обитатели дворов облепляли постройки сонмом клетушек для хранения всего, чего жалко выбросить. Дворы меняли свой облик, становились похожи на трущобную застройку. Но один из тех дворов, которые максимально полно сохранили свои внутренние здания, я, все же, нашел. Зайдем?
Здание по Архангельской-Базарной, (Ленина, 42). ОКН. Когда-то здание принадлежало чистопольскому мещанину А.К. Державинскому. Выстроено во второй половине XIX века. Сдавалось в аренду. Здесь был и магазин известного елабужского купца первой гильдии Ивана Григорьевича Стахеева, тестя Алексея Арсентьевича Подуруева, женатого на дочери Ивана Григорьевича. Подуруевы жили на Екатерининской, сегодня в этом здании расположился Музей истории города. Проезд во двор лавок на Архангельской запирали двойные ворота, от которых сегодня остались лишь могучие опоры петель. Дальше начинаются чудеса.
Этой весной в Чистополе, похоже, заработала новая программа, программа чистки десятилетиями копившихся завалов мусора в наших дворах, программа сноса покосившихся, с продавленными крышами, отживших свой век бесхозных сараев и сараюшек. И это хорошо. Какое же чудо иной раз открывает нам снесенная пристройка. Так в нашем дворе открылась дивная металлическая дверь с, наклепанным на нее орнаментом и расположенное рядом окно, закрытое металлическим же ставнем. Щеколда засова этого ставня — сама по себе произведение искусства. Вероятно скоро украдут. Двухэтажный кирпичный флигель во дворе соединен со зданием лавок длинным пристроем-переходом. Ба-а, да под ним еще и подвал есть, вот и дверь в него, более поздней постройки, конечно, но геометрия проема и старинный кирпич кладки несомненно указывает время постройки. По другую сторону двора — вереница складских помещений. Разной высоты ворота, ложные окна, большая дверь на высоте второго этажа. Все очень добротно, крепко, надежно. Хочется ходить по двору выискивая взглядом все новые и новые детали интерьера. Вот непонятная для молодежи вставка на окне. Вряд или кто из сегодняшних школьников догадается, что это переходник, к которому подсоединялась труба печки-буржуйки, незаменимого источника тепла во время войны. Да и печью она служила при необходимости. Такие трубы тогда торчали из многих чистопольских окон.
В нашем Чистополе десятки объектов культурного наследия: здания, ворота, флигеля, даже захоронения. Но нет ни одного объекта культурного наследия под названием «Чистопольский двор». Что, он менее ценен, менее интересен? Такой двор привлечет гостей нашего города даже с большим успехом, нежели соседние здания по той же улицы. Особенно, если собственник его немного благоустроит. А может и выставит во дворе столики для перекуса на бегу? В одном из помещений уже идет ремонт, говорят здесь откроют новую булочную-кондитерскую.
Но этим мечтам о новом привлекательном облике нашего Чистополя не сбыться никогда. Лучше проведем еще одну конференцию, на которой со свечой будем искать изюминки нашего города, походя разрушая историю. Это я серьезно. Очередная МЕЖДУНАРОДНАЯ конференция по поиску путей развития туризма в нашем регионе запланирована на май. (Название, конечно. будет другое, более «научное», но смысл именно этот). А в нашем дворе уже висит транспарант с картинкой его будущего — стоянкой на 10 машин для сотрудников Комитета по учету чего-то там очень важного в нашей городской экономике. В выходные, когда этот самый комитет не работает, во дворе стоит всего одна машина, да и то заезжая. Ох уж это проклятие старой цыганки! Прости, Рустам:
Заканчивать повествование о узниках Чистопольского острога и не поговорить о зданиях, каким-либо образом причастных к ограничению свободы, а некоторые и к непосредственно к вынесению, и, даже, к исполнению приговора, а это не только тюрьма, было бы неправильно. Прогулялись с Рафаилом Хамитовичем Хисамовым Рафаил Хисамов по улицам нашего города, если помните, называется он Чистополь. Рафаил Хисамович — человек энциклопедических знаний, его занятие историей города началась в те благословенные времена, когда еще были живы участники событий, происходящих в городе во времена Великой Октябрьской революции, той самой, которую сегодня многие называют октябрьским переворотом. Нет, только революция может разрушать империи, только революция выкидывает, в буквальном смысле слова, на задворки истории прежних владельцев собственности, носителей культуры и нравственности, и только революция пожирает своих детей. Это все про нас, кто не догадался. Сколько историй, сколько знаний хранится в памяти Рафаила Хамитовича, успевай только записывать. Причем историй, полученных из первых, что называется, рук. Можете представить, что вы разговариваете с человеком, который приводил в Чистопольской тюрьме в исполнение смертные приговоры, да так добросовестно и ювелирно, что его весной 1940-го командировали в Катынский лагерь для расстрела польских офицеров, взятых в плен во время польской кампании 39-го года? Своих расстрельщиков не хватало, такими массовыми были казни. Или с секретным сотрудником ЧК — сексотом, который вам рассказывает, как сопровождал бойцов продотрядов, тех самых, что выгребали зерно у селян. Или же вам рассказывают как расстреливали председателя, простите, комиссара Чистопольского Военно-революционного комитета Федора Миксина, да еще и дом, где его убили, покажут. Очевидцы и участники этих событий еще были живы в 70-80-е годы. О, сколько они могли рассказать и рассказывали же! И открывали они свою не всегда чистую душу именно Рафаилу Хамитовичу Хисамову. Второй мой «секретный» информатор — Георгий Иванович Лыков Георгий Лыков . Это он был знаком с одним из чистопольских руководителей ВСЕВОБУЧа, да и с некоторыми другими деятелями военизированных органов. На мой вопрос: «Чего же вы свои воспоминания-то не пишите, это же живая история города»?, Георгий Иванович всегда отвечает: «Да я писал когда-то, надо поискать».
А сколько имен было найдено Чистопольским отделением «Мемориала», сколько восстановлено подлинных историй, подлинных трагедий. Прошлое нашей страны не должно быть забыто, иначе тропинка истории уведен нас опять в дебри насилия , бесправия и беззакония. А, может быть, уже увела? Тогда, главное, найти путь назад. Моисей вел свой народ по пустыне порока и беспамятства сорок лет, есть ли среди нас свой Моисей…Память народа, как сказала Дина Рубина, писатель, произведения которого я очень люблю, «память народа — залог его нравственной силы». А нравственной силы нам сегодня очень не хватает.
О самом Чистопольском остроге, о его малом «филиале» — Домзаке на Толстого, я писал в первых частях этого бесконечного сериала. 18-й год — год бессудных казней, год расстрелов как новоявленных революционеров, так и чистопольских дворян, купцов, священников, несогласных и просто горожан, сочувствующих колчаковскому движению. Расстрелы, кажется, проводились везде — и на «барже смерти», что стояла на рейде Чистополя, и в районе Килевки, и в затоне на льду Прости, и в районе городских Пороховых складов ( там сегодня стоят дома по улице Кулясова, бывшей Колхозной), и в так называемой «корьянке» — сегодня это улица Хамзина, та ее часть, что за мусульманским кладбищем. Любопытно, что улица названа в честь советского партийного и государственного деятеля, участника Гражданской войны, Наркома просвещения Крымской АССР Кирама Хамзина, известного еще и работой в качестве уполномоченного Чистопольского исполкома по выполнению плана сбора зерна в уезде, фактически, руководителе продотрядов, что весьма символично. Юрий Кондрашин Юрий Кондрашин, наш гуру по речной картографии, вспомнил, что в документальном фильме «Письма из провинции», Клавдия Трубилова рассказала о двух затопленных баржах у Крутой Горы с живыми священнослужителями в 1918 году, и он, Юрий, с помощью эхолота эти затопленные баржи нашел! Расстрелы проводились и на кладбище возле задней стены кирпичного амбара хлеботорговца Зайцева, сегодня на этой стене висит мемориальная табличка, и во дворе здания, где располагалась местная милиция, это здание сегодня частично занимает городской отдел архитектуры, Екатерининская, К. Маркса 27. Приговоренные препровождались в такой закуток за зданием, заводился мотор автомобиля, чтобы выстрелов не было слышно, звучала команда — и все. Комиссара Военно-революционного штаба Чистополя Федора Миксина расстреляли прямо на его рабочем месте. Случилось это 15 июля 1918 года. Накануне Миксин отменил приказ о проведении следствия бойцу Красной Гвардии Петру Галкину, которого поймали за мародерством, и приказал его расстрелять, чтобы другим неповадно было. На другой день брат расстрелянного, Лев Галкин, с отрядом буслаевских моряков ввалился в здание Реввоенкомата Чистополя, и собственноручно расстрелял Федора Миксина прямо в его кабинете. Позже Миксина, вместе с другими комиссарами, погибшими во время захвата Чистополя сербско-хорватским батальоном КОМУЧа перезахоронили на площади, возле здания бывшей уездной думы. Был даже поставлен памятник погибшим. Его последний вариант, установленный в 1957 году, автор, кстати, наш художник Иван Александрович Нестеров, и сегодня украшает это место. И само здание, в котором расстреляли военкома Чистополя, тоже сохранилось, Фрунзе 83, правда, похоже, доживает последние дни.
Советские власти не раз пытались упорядочить структуру органов ВЧК — ОГПУ — НКВД. Уследить за всеми этими изменениями необычайно трудно. В Чистополе в разное время находились и окружные, и кантонные, и районные, и городские аппараты полномочных представителей губернской, а затем и республиканских структур ВЧК-ОГПУ-НКВД. Были и городские отделы органов госбезопасности. Были в Чистополе и районные, и городские транспортные отделы ГПУ — НКВД, были их оперативные пункты на пристанях — город на реке, а враги не дремлют. Был следственный отдел ВЧК — ОГПУ. И вся эта многочисленная организация в разные времена занимала не одно здание в нашем городе. Первый Горотдел ГПУ-НКВД долгое время располагался в здании по Урицкого (снесено), а рядом, в деревянной казарме (снесены), размещались бойцы роты НКВД. Казарма стояла вдоль улицы, сегодня на ее месте кленовая роща, а на месте здания горотдела построили здание стоматологической поликлиники.
Еще одно сохранившееся здание — это здание народного суда, дом, где правосудие, собственно, и вершилось. Это бывший, так называемый Дом исправника, Архангельская, Володарского, Ленина 83. По соседству с ним сохранилась здание, где размещался отряд бойцов НКВД, который обеспечивал порядок в здании суда. В здании после войны разместился детский сад, это Либкнехта 32.
На Володарского находился горотдел ЧК, работающий на транспорте. Располагался он в доме, где когда-то был электротеатр «XX век» Евгения Борхина, а сегодня магазин «Школьник». Горотдел находился в задней части дома со входом со двора. Это сегодня Ленина 41.
На Екатерининской, К. Маркса, сохранилось несколько зданий , в которых в разное время трудились наши славные карательные органы власти. На фасаде бывшего здания Чистопольского педучилища висит табличка, извещающая, что в этом здании располагался Военно-революционный штаб города. А Георгий Иванович, много лет проработавший в этом здании и хорошо знающий его историю, рассказывал, что в подвальном помещении флигеля бывшей Чукашевской усадьбы были устроены камеры для содержания арестованных. Судя по всему, именно сюда после проведенной облавы были привезены Виктория Александровна Бутлерова (Габриэль) с дочерьми Марией, Татьяной и Викторией. Младшей было 18 лет. Обвинение — участие в к/р заговоре — поддерживали деньгами Народную армию КОМУЧа. Их расстреляли в конце декабря 18 года, не дожидаясь утверждения приговора Губернской ЧК, во дворе, возле каретника. Уцелела только старшая дочь, Мария. А на другой стороне Екатерининской, тогда уже переименованной в улицу К. Маркса , почти напротив, и сейчас стоит дом, который называли «милицейским» из-за того, что в нем жили руководители кантонной и городской милиции. Сегодня его адрес К. Маркса 6.
Поднимаемся выше по К. Маркса, к дому №23, в котором ранее располагались номера «Европейские», его еще называют домом Дерягина. Земский врач Николай Дерягин когда-то занимал почти весь первый этаж. В 1925 году квартира Дерягина была отдана семье другого чистопольского врача Зауралова Павла Тимофеевича, так вот, его внучка, с которой я долгое время переписывался, сообщила, что, со слов бабушки, при разборке мусора в выделенной квартире, было найдено много одежды со следами крови. В доме и сегодня есть подвал, в нем в 20-х годах размещался пункт распределения продовольственной помощи американской организации АРА, позже хранился архив прокуратуры. В самом же здании также располагалась Чистопольская прокуратура.
Как это ни прискорбно, к пенитенциарным органам власти где-то с 1940-го года принадлежала и Воскресенская, или кладбищенская церковь. После возвращения церкви верующим в 1944-м году ее престол заново освятили в честь Чудотворной иконы Казанской Божией Матери. Особенно большой наплыв заключенных пришелся на первый год войны, когда в Чистополь были эвакуированы заключенные Бутырской и Таганской московских тюрем. Церковь тогда огородили рядом колючей проволоки, установили две наблюдательные вышки. Нары в четыре ряда, параша у входа — вот вид средней части храма, в которой сегодня обычно собираются на молитву. Смертность из-за скученности, плохого питания и отсутствия медицинской помощи была высочайшая. Каждое утро из помещения церкви выносили несколько трупов.
Еще более прискорбным является факт проведения расстрелов в главном чистопольском храме — Никольском, или, как его называли до передачи «обновленческой» церкви — Николаевском соборе. Расстрелы не были регулярными, но, тем не менее, при осмотре подвала храма после передачи его верующим в начале 90-х, были найдены стреляные гильзы от нагана и даже пули, застрявшие в подвальных стенах. К сожалению, церковь не приняла во внимание просьбы сотрудников Чистопольского отделения «Мемориала» увековечить эти следы, и при очередном ремонте они были уничтожены. Трупы расстрелянных, по рассказам старожилов, вывозились ранним утром на старенькой полуторке.
Если подниматься вверх по четной стороне К. Маркса, то мы пройдем мимо бывшей автостоянки работников Чистопольских электросетей. На этом месте до революции находился кинотеатр «Мир чудес» Ивана Токарева и Евгения Борхина, а позже в здании разместился так называемый Клуб НКВД. Его называли иногда Домом офицеров, вероятно оттого, что в этом здании часто собирались летчики 8-го запасного учебного полка пикирующих бомбардировщиков, расквартированные неподалеку, а по выходным даже устраивались танцы. Вот в этом здании в годы войны выступали литераторы — поэты, писатели и драматурги, эвакуированные в наш город в 1941 году. Увы, здания вы не увидите, оно снесено в 90-е.
Но здание, в котором в 30-е располагался Военный комиссариат Чистополя увидеть можно. Сегодня это К. Маркса 48, детский сад «Непоседа», а до революции усадебное место принадлежало одному из представителей известного многочисленного купеческого рода Шашиных. Один из немногих дворов, в котором сохранились здания крупорушки и дворового флигеля. Один из ночных сторожей детского сада несколько лет назад рассказывал мне о недоброй славе этого здания. А вот буквально на днях, когда я зашел во двор, чтобы сфотографировать здание, то встретил давнюю свою знакомую, которая и передала мне рассказ бабушки, перед войной работавшей в детском саду, о находке в одной всегда закрытой, даже дверь была заколочена, подвальной комнате и вороха одежды со следами крови, и стреляных гильз, и следов пуль на стенах.
И все это тоже наша история, история нашего города и отмахнуться от нее, забыть ее невозможно. Помнить, чтобы не повторить, сегодня это девиз нашего времени:
#нашчистополь #дворынашегодетства #экскурсиипочистополю
Всем привет! Продолжим прогулку по чистопольским дворам?
Сегодня мы заглянем в мой любимый чистопольский двор. Второго такого не найти не только в нашем Чистополе, но, пожалуй, и во всей бывшей Казанской губернии. Он уникален. Уникален своей сохранившейся красотой производственных зданий. Посмотрите — огромные глухие арки, ложные окна, прочная стальная решетка на окнах, (кстати, почему форма переплета решетки почти всегда одинакова и на окнах церквей, и на окнах складов — форма креста? Случайно ли совпадение?). Уникален своей продуманностью максимального использования пространства двора — видите эти проемы склада на уровне двух метров и висящие в высоте ворота? Они говорят нам о том, что когда-то здесь был технологический настил для прохода к этим самым воротам. По доскам высокого пандуса грузчики заносили мешки с гречей, овсом или рожью на склад второго этажа. Почему не с пшеницей? Потому что в Чистопольском уезде ее урожай был невысок, ее мало сеяли. Нашу догадку подтверждает сохранившийся столб — опора этого самого высокого пандуса. Сохранился даже шип на его вершине, на который надевалось бревно, поперечная опора настила. Столб всего один, но ведь столько лет прошло! Легко представить себе, как вереница грузчиков, неторопясь, мерно ступая, шагала по наклонному настилу, поднимаясь наверх к открытому проему ворот, перегружая кули зерном с телеги на склад. Если приглядеться, то в более поздней постройке, соединившей два здания замыкавших двор, можно увидеть остатки фасонной рамки въездных, а, может быть, выездных, конечно же кирпичных, ворот. Зачем телеге разворачиваться во дворе, мешая рабочему ритму, проще выехать через вторые ворота. И они здесь были! Второе двухэтажное кирпичное здание в глубине двора в очень хорошей сохранности — на месте крыша, каменный карниз без единого скола. Это оно украшено ложными арками ворот и ложными окнами. Как же заботились наши предки о красоте окружающего их пространства! Даже производственные, выстроенные в традиционном «кирпичном» стиле здания, невероятно хороши. Чего уж говорить о межусадебной ограде! Когда я обнаружил этот двор, я был просто ошеломлен, увидев сохранившейся солярный узор на полотне ограды и деревянный багет по его краю. Толстые деревянные плахи наглухо вогнаны в выточенные пазы кирпичных столбцов — опор. По верху ограды когда-то шел двухскатный навес из теса, вот его фрагменты еще видны на некоторых частях ограды. Его называли обвершка. Этот навес еще можно встретить на некоторых деревянных воротах Чистополя. Даже время не смогло уничтожить эту красоту, а ведь прошло почти 200 лет. Усадьба эта — одна из первых каменных усадеб, появившихся в нашем Чистополе. И то, что она так хорошо сохранилась — дорогого стоит. Под зданием склада обнаруживается еще и просторный подвал, к сожалению, вскрытый в большой своей части. Во дворе находились еще и деревянные постройки, какие, мы можем только догадываться, время и люди их не пощадили. Вот это беспорядочное нагромождение деревянных останков и показывает нам место их первоначального расположения. Нетрудно догадаться, что эти деревянные строения некогда замыкали хозяйственный двор. Есть в этом дворе еще одна изюминка, о которой рассказать нельзя, ее можно только показать.
Можно еще побродить по этому двору, разглядывая сохранившиеся детали запоров. Все прочно, все надежно, все на века! Вот «родные» накладные петли ворот в складское здание, на каждой выбит узор или орнамент мастера, кузнеца, отковавшего их почти 200 лет назад. Вот могучий засов наружного замка, он и сегодня запирает дверь.
Внутренний двор сегодня, конечно, запущен. Но еще просматривается его великолепие. А расположение усадьбы — лучше не придумаешь. Прямо напротив — Музей уездного города, чуть выше по той же стороне Екатерининской-К. Маркса — Музейно-выставочный комплекс в усадьбе Чукашева. На другой стороне улицы, еще два музея — Литературный — Дом учителя и будущий музей Леонова — Сельвинского. В угловом здании в этом же квартале, в том, что смотрит на Каму, планируется разместить картинную галерею, насколько я знаю. Целое созвездие музеев окружает эту усадьбу. А поблизости — ни одной кафешки, кофе попить и то негде. Не говоря уже о том, чтобы присесть в жаркий полдень под тентом с бокалом ледяного «Шардоне», а утомившимся от прогулки детям купить по мороженке. А в одно из дворовых зданий так и просится «Купеческий трактир» с кулебяками, расстегаями, сборной ухой, с холодной ботвиньей летом, щами из квашеной капусты. Да мало ли рецептов вкуснейших и полезных блюд существовало на Руси. Если еще и сохранившийся соседний купеческий дом переделать под гостиницу — цены бы не было этому комплексу.
До 22-го года я любил и часто путешествовал на машине по стране. Где только не бывал. В Волгограде, в старом здании ЦУМа, открыта гостиница, конечно, «Сталинград». Попробуйте без предварительной брони поселиться в нее — у вас ничего не выйдет. Ах, какой в ней вестибюль! В старинном купеческом Камышине, так похожем на наш Чистополь, в купеческом особняке открыта подобная гостиница, не помню название — сколько их уже было. В номерах фотографии старинных открыток, интерьер комнат имитирует мебель и освещение интерьера начала XX века. Во дворе кафешка с «народной» едой. Не попасть в туристический сезон. И так везде, в каждом городе, где чтут свою историю и заботятся о ее продолжении. Нет, этот двор — Клондайк для рачительного хозяина.
Размечтался, скажут читатели, и, скорее всего, будут правы. Только что более губительно — древнее цыганское проклятие или нерадивость и нерасторопность хозяев города?
Статус зданий и владелец самого двора для меня не ясен. Один из домов, якобы принадлежал когда-то нашему Рыбзаводу, которого давно уже нет. В другом оборудовали маленький гаражик. В самом дворе кто-то начал вырубать деревья — видимо, хозяин все-таки есть.
Забыл представить первого владельца усадьбы — чистопольский купец, хлеботорговец, Яков Степанович Лихачев. По соседству усадьба его брата, тоже хлеботорговца, чистопольского купца Алексея Степановича Лихачева. В нее мы заглянем в следующий раз:
ГОРОД, ГОРОД ДЕТСТВА МОЕГО… ЧИСТОПОЛЬСКИЕ ДВОРЫ. (ПРОДОЛЖЕНИЕ 3)
#нашчистополь #дворынашегодетства #экскурсиипочистополю
Всем привет! Погуляем по Чистополю? В прошлый раз мы заглянули, наверное, в самый интересный, в самый таинственный, в самый перспективный для создания комплекса услуг для гостей города, и в самый запущенный двор (хотя они, старые чистопольские дворы, представляющие хоть какой-то интерес для туристов, все запущены), мы заглянули во двор купеческой усадьбы чистопольского хлеботорговца Якова Степановича Лихачева.
Соседнее усадебное место по Екатерининской к середине XIX века принадлежало его брату, Алексею Степановичу Лихачеву. Оба брата занимались самым прибыльным для хлебного края бизнесом — хлеботорговлей, оба принадлежали к старообрядческому «рябиновскому» согласию, его еще называют Согласие по кресту. Если принять во внимание, что оба брата построились в самом начале лучшей улице Чистополя — Екатерининской, ее иногда называли просто Большая, в том числе и за красоту на ней расположенных домов, значит братья были влиятельными и состоятельными торговцами в городе.
Несколько лет назад одна моя читательница из Уфы написала, что семейное предание ведет их род от чистопольских хлеботорговцев Лихачевых, и что у их пра..прадеда имелись в Чистополе несколько ветряных мельниц и ряд хлебных амбаров. И действительно, в статье Юлии Гавриловой, научного сотрудника Музея истории города Музей-Истории-Города Чистополь, говорится, что сын Алексея Яковлевича — Кузьма Алексеевич, владел пятнадцатью хлебными амбарами на Хлебной пристани — это очень даже немало.
Соседство усадеб братьев Лихачевых предполагает одновременное строительство как усадебных домов, так и хозяйственных помещений, складов, скупок, и производств по переработке зерна, и, скорее всего, общее имущество. Интересно, что первые дома в Чистополе, которые мы называем каменными, на самом деле состоят из деревянного мощного сруба, обложенного кирпичом. Именно по такой технологии построены здания усадьбы Алексея Степановича Лихачева. Если приглядеться к оконным проемам самого дома и к практически рухнувшим стенам флигеля, то нетрудно увидеть как это осуществлялось на практике.
Дом купца Алексея Лихачева — объект культурного наследия, он когда-то входил в программу реставрации зданий по линии Банка Нового Развития стран БРИКС, но за время ожидания начала работ начал стремительно разрушаться, флигель уже упал, так что сегодня вопрос его сохранности под большим сомнением. Каким-то чудом сохранились ворота усадьбы, традиционные чистопольские ворота из фасонного кирпича. Но войдем мы во двор усадьбы не через них, они закрыты на замок, а обойдя главный дом стороной.
Главный жилой дом усадьбы также в печальном состоянии. Несмотря на то, что сегодня его оконные и дверные проемы забиты щитами, некоторое время назад он стоял совершенно открытый, чем не замедлили воспользоваться любители халявной старины — мародеры. В доме отсутствуют полы, от слова совсем, разобраны печи. Кроме того, отсутствие кровельного железа на большей части крыши привело к заливанию внутридомовых конструкций осадками и утрате прочностных характеристик , так что сегодня в дом заходить просто опасно. А жаль. Во-первых интересная лестница за высокой входной дверью и фрамугой над ней ведет сразу на второй этаж дома. Во вторых, всегда говорил, что если хочешь увидеть первоначальную планировку здания, посмотри на потолок — линии потолочных багетов сразу покажут как перестраивался дом. Так вот, внутренняя часть этого дома не перестраивалась никогда! Можно разобраться, как была устроена прихожая. где была кухня, где кладовая. Все багеты на своих местах, ни один не уходит в стену. А комнатки, по большей части проходные и совсем маленькие, говорят нам о скромности купеческого быта первой половины XIX века. Балкон, конечно же есть, странно, что он выходит во двор, но это, вероятно, прихоть хозяев дома. В-третьих, парадная зала, выходящая на Екатерининскую, разделена на две части аркой алькова так, что в меньшей части получился уютный будуар.
В доме, конечно, была коммуналка, в коммуналку был превращено и примыкающее к двухэтажному дому высокое хозяйственное строение. Его перестроили, добавив ему полэтажа, пробили окна, нагородили фанерных стен и сделали коммунальным жильем. Интересно, что первый этаж имеет сводчатые потолки, опирающиеся на перегородки-стены, дом строился еще до того, как в строительстве в качестве перекрытий стали применять своды Монье, позволяющие перекрывать большие площади. Жозеф Монье взял на них патент в 1880 году, после чего эти своды получили широкое применение, в том числе и у нас, в России. Зайдите в магазин №1, так он когда-то назывался, а еще раньше этим магазином владел чистопольский купец Андрей Нестерович Маклаков и вы увидите эти своды во всей красе. Сегодня на нем по соседству с рельефными надписями «ЧАЙ», «САХАРЪ», (третью забыл, подскажите, пожалуйста), красуется очень современная вывеска «конфискат» — что посеешь, то и пожнешь.
Еще более интересным является дальнее торцевое помещение. Если вы в него попадете, то почувствуете себя то-ли в подвале, то ли в храме — просторная комната перекрыта высоким темным сводом, опирающимся на четыре стены. Посередине — огромная печь, комната эта, находящаяся в хозяйственном блоке, когда-то была явно жилая. Несколько лет назад в этой комнате обитал бомж Саша, мы с Михаилом Любимовым Михаил Любимов, делая очередной фильм о Чистополе, случайно обнаружили его по дымку, поднимающемуся из трубы. Тогда у него в собственности была еще и деревянная пристройка — сени, ныне снесенные.
Но, наконец-то, пора войти во двор. Справа — двухэтажный жилой дом с традиционным для Чистополя входным пристроем со двора, и продолжающее его перестроенное хозяйственное здание, слева — большой флигель, ныне упавший. А вот строения позади упавшего флигеля, говорят нам, что хозяин усадьбы не чужд был прекрасному. Хорошо сохранившееся складское здание позади флигеля имеет и красивый кирпичный портик и пару колонн на крыше, украшено и глухими ложными окнами, и узором из фасонного кирпича. А какой неописуемой красоты дверь украшает дверной проем второго этажа. Ах, если бы не эта жуткая металлическая лестница, так позорящая этот склад! Дальше опять идете перестройка — к переходу в производственные помещения добавлен второй этаж, дальше вообще какие-то бесстилевые пристройки скрывают стены оригинального двухэтажного производственного здания. А ведь во дворе еще должны были размещаться конюшни, и немаленькие. Поскольку хозяин усадьбы торговал хлебом, и торговал, судя по всему успешно, значит у него должны быть коноводки — большие плоскодонные баржи для перевозки зерна, приводимые в движение лошадьми.
Прошлым летом были у меня гости из Санкт-Петербурга, причем гости не простые, а профессиональные историки, разбирающиеся, в том числе, и в архитектуре. Вот ходим мы с ними по этому двору, рассматриваем уже почти исчезнувшую красоту, и вдруг они говорят: «Сергей Борисович, посмотрите, а ведь первоначально правый и левый пристройки к дому и к флигелю были совершенно одинаковы. Оба пристроя повторяют друг друга». И точно, если присмотреться, то станет заметно, что при надстройке второго этажа к правому зданию, срубили и кирпичный портик, и пару колонн, от них остались только едва угадываемые следы на стене здания. Но, если есть эти следы — значит можно вернуть зданию его первоначальный вид, и тогда двор будут украшать два пристроя-близнеца, правый и левый. Вот так, век живи — век учись (смотреть на родной город):
Есть в нашем Чистополе здание, причем в самом центре, практически на центральной площади, на фасаде которого расположена таинственная арка наглухо закрытая металлическим листом. Размеры ее таковы, что позволяют проехать во внутренний двор запряженной повозке, тем более, если перед ней снять толстый слой асфальта, накопившийся за прошедшие годы. Неспроста эту арку здесь соорудили, возможно за ней когда-то скрывался постоялый двор. Как бы за нее заглянуть, ведь за закрытыми воротами, как правило, располагается самое интересное. Но сначала немного о истории самого здания.
В изданных материалах Музея истории города Музей-Истории-Города Чистополь можно найти, что на этом месте в середине XIX века находилась усадьба чистопольского купца второй гильдии, хлеботорговца Лаврентия Васильевича Кошаева. Причем хозяйство купца было немаленькое — деревянный двухэтажный дом крытый железной крышей, три хлебных амбара, баня, несколько деревянных навесов и еще одна жилая изба под тесовой крышей. Еще семь амбаров Кошаева находились совсем неподалеку, на Хлебной пристани. Лаврентий Павлович владел еще и крупянкой, заводом для переработки крупы. Лаврентий Кошаев четырежды избирался на должность городского головы, он один из немногих чистопольский купцов, живших на торговой Архангельской-Базарной улице. Нет, вряд ли он держал бы здесь постоялый двор.
Но, как выяснилось, в 1870 году Лаврентий Кошаев решил перестроить свой деревянный дом, заменить его роскошным деревянным, обшитым тесом зданием, традиционно установив его на каменный первый этаж. Был заказан проект помощнику архитектора в Казанской губернской строительной и дорожной комиссии Петру Валериановичу Тихомирову, известному в губернии архитектору. И проект был выполнен, можно даже увидеть, как выглядел бы сегодня угол Ленина и Толстого, если бы…, если бы Лаврентий Васильевич не умер в 1877 году в возрасте 47 лет, в расцвете, что называется сил.
Наследники Лаврентия Васильевича продали усадебное место крестьянам села Анатыша супругам Андрею Алексеевичу и Киликии Ивановне Кузнечиковым, которые совместно с чистопольским мещанином Федором Ивановичем Чирковым в конце XIX века выстроили на этом месте добротное двухэтажное здание, которое и сегодня украшает центральную площадь города, и в котором и расположилась таинственная арка. Первый этаж здания занимали торговые помещения. Сохранилась фотография его фасада по улице Дворянской (Графа Толстого, Толстого), на которой видна вывеска популярного в Чистополе трактира Степана Ермакова. На втором этаже находились гостиничные номера. Вот тут-то, скорее всего, арка во внутренний двор и пригодилась — здание одним фасадом выходило прямо на нижний рынок, базар, а в декабре на нем еще и Никольская ярмарка проводилась, на которую съезжалось множество торговцев. Скорее всего внутри были и конюшни и стойла и сеновал.
Экспроприированное, то есть отобранное у владельцев, после революции здание своего назначения не поменяло, осталось гостиницей. Во время Отечественной войны в здании разместился эвакогоспиталь, затем опять гостиница.
Во втором здании, бывшем здании Федора Ивановича Чиркова, какое-то время назад размещалось отделение «Ак барс банка», сегодня оно пустует. Пустует и двор. Когда-то он был открыт всем желающим, но сегодня на воротах во двор висит замок, хорошо у меня остались фотографии, сделанные ранее. Во дворе сохранился каменный флигель, используемый когда-то в качестве склада, что определяется по маленьким оконным проемам первого этажа. Повернув за угол флигеля вы увидите, наконец, и небольшой двор с той самой аркой. Двор, конечно, по чистопольской традиции замусорен. О, бывшее здание отделения «АББ» еще и подвал имеет! Вот большие металлические щиты закрывают люки, через которые товары в подвал разгружали. Совсем интересно! Интересно, кому сегодня принадлежат и двор и здания? Закрытый двор в самом центре города, с выходом через красивую арку на центральную площадь по существу пропадает, не используется никак и никем, похоже, он просто никому не интересен:
Но вернемся в наш двор. Кто в уездном Чистополе был самый большой, самый значительный, самый богатый и успешный хлеботорговец? Кто владел зданиями и землей между Поляковской и Челышевской, между Екатерининской и Первой Татарской? Кто построил на этом месте свою хлебную (и соляную, между прочим), империю? Правильно, чистопольский купец первой гильдии коммерции советник Василий Львович Челышев. Был, правда, у него сосед — такой же хлеботорговец, такой же чистопольский купец первой гильдии, коммерции советник Петр Матвеевич Шашин. Но от шашинских зданий — мельницы, складов, не осталось ничего, снесли в 2010-е, а челышевские еще стоят. В сохранившихся до наших времен зданиях и располагались челышевские мельница, круподерка, зерновые амбары, хлебные скупки, торговые лавки, многочисленные хозяйственные постройки. Позже в этих зданиях расположились учебные комнаты и даже целый спортзал ( очень просторный, кстати) сельхозтехникума, одного и лучших учебных заведений Татарстана.
Василий Львович был человеком практичным, и, чтобы не возить купленное на Хлебной площади зерно кружным путем, он устроил сквозной проезд через квартал к своим перерабатывающим фабрикам. Вот через эти ворота и шел в сезон непрерывный поток подвод с зерном. Видите, даже мостовая уцелела. Дальше зерно распределялось по складам. Проемы ворот, сегодня висящие в воздухе, говорят нам о том, что сто лет назад к ним вели широкие пандусы, примерно такие, какие сохранились во дворе бывшего сельхозтехникума. С другой стороны двора еще видны ворота складских помещений, переделанные под ангары для машин. Жаль, конечно, что более мелкие постройки не дожили до наших дней, но и в таком виде наш «технологический» двор представляет собой интересное зрелище:
#нашчистополь #дворынашегодетства #экскурсиипочистополю
Скорее всего, дом был построен на рубеже XIX — XX веков его отцом, Лаврентием Степановичем Мельниковым, и поначалу представлял собой симметричное по обоим фасадам прямоугольное в плане здание, что хорошо видно на фотографии 1910 года. Позднее к нему было пристроено крыло по Николаевской с той самой изумительной башенкой в новом правом крыле. Будете рядом, приглядитесь к нему повнимательнее, оно стоит этого. На фото правого крыла с башенкой еще нет.
Интересна родословная Мельниковых. Из недоказанного, вернее, неисследованного пока, сейчас удивитесь. «История бывшей гостиницы «Казань» ведется с 1835 года, когда чистопольский купец II гильдии Герасим Семенович Мельников дал поручение казанскому архитектору Фоме Петонди «отстроить дом не для семьи своей, а для гостиницы для приезжающих и для магазинов». В начале XX века номера покупает купец Павел Щетинкин. По его распоряжению надстраивается четвертый этаж, подворье увеличивается в своем масштабе, благодаря присоединению к нему соседнего здания с улицы Проломной…В гостинице останавливались поэт Владимир Маяковский, писатели Максим Горький, Александр Фадеев, Демьян Бедный, Алексей Толстой». (Из истории казанских доходных домов. Вот фото здания «Номеров Щетинкина» (Герасима Мельникова), а вот фотография чистопольского дома Мельникова того же (1910-1911 год) периода. И как же они, эти здания, похожи.
Ну, ладно, отвлеклись. На первом этаже «нашего», чистопольского здания Мельникова располагался крупнейший в городе магазин бакалейных товаров, торговавший пряностями, чаем, кофе, кондитерскими изделиями, рисом и табаком. В доме сохранилась деревянная лестница, ведущая из жилых комнат второго этажа прямо в магазин. Во флигеле, слева от ворот, располагалось пряничное производство самой Прасковьи Тимофеевны, пожелавшей иметь свой, независимый от мужа, доход.
Сегодня во флигеле симпатичная ретро-кофейня «Ботаника». А я помню, что в мои школьные годы в этом флигеле, в подвале, готовился развод почетного караула для постановки на пост у находящегося на площади Вечного огня. Я был назначен разводящим, и, помню, каждый раз волновался, как все пройдет. Низенькая металлическая дверь, через которую мы выходили из подземелья, сохранилась до сих пор.
Во дворе можно увидеть немало раритетов того, дореволюционного времени — двери, в том числе и деревянные, металлические запоры, дверные накладки, металлически навесы с клеймом мастера. Жаль, что арки ворот изуродованы врезанными в них прямоугольными воротами, а хозяйственные помещения усадьбы перестроены под гаражи.
Этот двор — типичный пример того, насколько сложно в нашем Чистополе воссоздать традиционный двор купеческой усадьбы, сколько препятствий надо преодолеть, а ведь описываемый двор считается привилегированным — в Доме Мельникова располагается дирекция Чистопольского музея-заповедника, и его посещают высокие гости:
Я говорю за всех, кто здесь погиб.
В моих стихах глухие их шаги, их вечное и жаркое дыханье.
Я говорю за всех, кто здесь живет, кто проходил огонь, и смерть, и лед,
Я говорю, как плоть твоя, народ, по праву разделенного страданья…
При одном только взгляде на этот заголовок и на эти строки все, наверное, поймут, что речь в этой статье пойдет о Ольге Берггольц, о человеке, гражданине, поэтессе, олицетворяющей стойкость и мужество Ленинграда. Тысячи горожан во время блокады собирались возле черных репродукторов для того, чтобы услышать ее стихи, вселяющие надежду на мирную жизнь, которая обязательно вернется после страшной войны, на солнце, которое прорвется сквозь сгустившиеся тучи, голод и холод. Ольга Берггольц стала музой людей, находившихся в блокадном городе. Это сегодня о ней пишут как о прозаике и драматурге, писательнице и военном журналисте, а тогда Ольга Берггольц была голосом осажденного города. А еще она автор строки, начертанной на мемориалах во многих городах страны, в том числе и в нашем Чистополе: «Никто не забыт, и ничто не забыто…» Даниил Гранин сказал про поэтессу: «Она стала символом, воплощением героизма блокадной трагедии. Ее чтили, как чтут блаженных, святых».
Почему сегодня, в преддверии Дня Победы, я пишу о Ольге Берггольц? Потому, что ее жизнь, и ее творческая биография была такой характерной для многих, очень многих людей искусства молодой Страны Советов. И вторая причина — наш Чистополь.
Нет, скажу сразу, Ольга Берггольц никогда не была в нашем Чистополе, и, тем не менее, была связана с нашим городом незримыми нитями.
Родилась в Санкт-Петербурге весной 1910 года. Отец — выпускник Дерптского университета, военный хирург Федор Христофорович Берггольц, из семьи латышей. Мама – Мария Тимофеевна Грустилина, дочь рязанского мещанина, перебравшегося в столицу, женщина интеллигентная и образованная. В браке родились две девочки – Ольга, ее дома называли Лялей и Мария — Муся. Присматривать за детьми и домом женщине помогали няня и гувернантка. Дочерей Мария Тимофеевна воспитывала тургеневскими девушками: играла им произведения классиков, читала стихи, а отец, вернувшийся с фронта Первой Мировой, учил дочерей, что религия – предрассудок, а верующие кисейные барышни – пережиток прошлого. Кто из родителей победил в воспитании детей, судите сами — Ольга Берггольц пошла учиться в трудовую школу №117, стала пионеркой и пролетарской активисткой, вступила в ряды ВЛКСМ. В 15 лет девушка пришла в рабочий клуб, где образовалось молодежное литературное объединение «Смена». Молодежь и подростки, упражнявшиеся в написании стихов. Первые стихи Ольги Берггольц были под стать времени: «Ленин», «Пионерам», «Песня о знамени». Корней Чуковский, заметив Ольгу Берггольц, напророчил ей большое будущее.
Но в 1920-е юных поэтесс с горящими глазами, стриженых, носящих одежду военного фасона было более чем достаточно. Ольга Берггольц была всего лишь одной из них. В «Смене» Ольга встретила свою первую любовь — начинающего поэта Бориса Корнилова. Ей было 18, ему — 21 когда они поженились. К тому времени его уже признавали одним из самых талантливых молодых поэтов России. Наши родители, мои — точно, хорошо знают песню Корнилова «Нас утро встречает прохладой, нас ветром встречает река». Как сегодня модно говорить, она звучала из «каждого утюга» в 20-е годы. Вместе с мужем поступили на Высшие курсы при Институте истории искусств, где преподавали такие учителя, как Тынянов, Эйхенбаум, Шкловский (будущий наш, чистопольский), выступали Багрицкий, Маяковский. Вскоре у Ольги и Бориса родилась дочь Ирина, но брак оказался недолгим, в 1930-м супруги развелись. «Я разошлась с ним просто-таки по классическим канонам — отрывал от комсомола, ввергал в мещанство, сам «разлагался» — из дневника строителя общества равных возможностей Ольги Берггольц. А в 1936-м умерла их дочь Ирина, она с рождения страдала пороком сердца.
Позже, 13.03.1941, Ольга Берггольц написала в своем дневнике: «Перечитываю сейчас стихи Бориса Корнилова, — сколько в них силы и таланта! Он был моим первым мужчиной, моим мужем и отцом моего первого ребёнка, Ирки. Завтра ровно пять лет со дня её смерти. Борис в концлагере, а может быть, погиб». Борис Корнилов к тому времени был уже расстрелян. «За активное участие в антисоветской, троцкистской организации, ставившей своей задачей террористические методы борьбы против руководителей партии и правительства», (стандартная формулировка в годы «большого террора») Борис Корнилов был приговорен к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 20 февраля 1938 г. в Ленинграде.
Но, мы забежали немного вперед. Летом 1930 года Ольга отправляется на преддипломную журналистскую практику в газету Владикавказского окружкома ВКП(б) «Власть труда». Объезжает города и аулы, пишет о ходе коллективизации. По окончанию филфака ЛГУ, расставшись с Борисом, Ольга уезжает в Казахстан, работает корреспондентом газеты «Советская степь». И здесь массовая коллективизация со всеми сопутствующими принудительному процессу событиями. Ольга Берггольц напишет там свою первую большую работу — повесть «Журналисты». Эта повесть, будет фигурировать среди прочих обвинений в ее будущем следственном деле. В Казахстане Ольга сближается со своим сокурсником Николаем Молчановым, который вскоре становится ее вторым мужем. В 1932 году родилась дочь Майя, но девочка через год умерла. В том же году Молчанов был призван в ряды РККА и служил в пограничных войсках. Был захвачен в плен басмачами, после пыток заболел эпилепсией, был демобилизован и возвратился в Ленинград. Во время блокады Ленинграда дежурил на крыше при бомбардировках города, был ранен. Умер в 1942 году от истощения и прогрессирующего нервного расстройства, похоронен на Пискарёвском кладбище.
Опять перескочили. В 1931-м Ольга вернулась в Ленинград. В Ленинграде Ольга Берггольц познакомилась с руководителем РАППа, зятем всесильного наркома НКВД Генриха Ягоды, Леопольдом Леонидовичем Авербахом. Это знакомство сломает Ольге жизнь. А пока в 1934 году Ольгу Берггольц приняли в Союз писателей СССР,
В сентябре 1936 года Ольгу назначают ответственным секретарем «Литературного Ленинграда», где она работает вплоть до ликвидации газеты в марте 1937 года. ««В жизни крутая перемена, — пишет она в дневнике, — назначили завредакцией «Литературного Ленинграда». Это во всех отношениях паршиво. Отрыв от собственной работы, погружение в это подлое стойло — газету…» Ольга все больше чувствует себя настоящим партийным пропагандистом. Она объясняет, растолковывает, ведет и возглавляет. На многочисленных собраниях, в том числе и писательских, звучали сокрушительные заявления в адрес предполагаемых троцкистов: «Расстрелять как бешеных собак!» Тогда Ольга Берггольц была на стороне тех, кто призывал к расстрелу. Но уже в начале 1937-го в «Литературной газете» появилась статья «Авербаховские приспешники в Ленинграде». Героями ее стали Ольга Берггольц, Ефим Добин и Лев Левин. 16 мая 1937 года после разбирательства персонального дела с унизительными подробностями ее близких отношений с Авербахом Ольга Берггольц была исключена из СП СССР. 10 июня 1937 года Ольга пищет в дневнике: ««На фоне того, что происходит кругом, — мое исключение, моя поломанная жизнь — только мелочь и закономерность. Когда падает огромная глыба, одна песчинка, увлеченная ею, незаметна».
Еще 9 мая 1937 года, Ольга записала в дневнике: «Если я доношу Степу (так она называла будущего ребенка) — это будет чистой случайностью». Случайности не произошло. После очередного допроса, будучи на большом сроке беременности, она попала в больницу, где потеряла ребёнка.
Двух детей схоронила
Я на воле сама,
Третью дочь погубила
До рожденья — тюрьма…. напишет Ольга Берггольц.
К середине 1938 года все обвинения с неё были сняты. И все же Ольга Берггольц была арестована в ночь с 13 на 14 декабря 1938 года как «участница троцкистско-зиновьевской организации» и доставлена в Шпалерку — тюрьму Большого дома. В постановлении об аресте говорилось, что Ольга Берггольц входила в террористическую группу, готовившую террористические акты против руководителей ВКП(б) и советского правительства — т. Жданова и т. Ворошилова. Показания на нее дал председатель Вятского отделения Союза писателей Андрей Алдан-Семёнов, который был первым в числе арестованных. Из протокола допроса Семёнова-Алдана 5 апреля 1938 года: «…Я вам расскажу обо всём. Я — враг советской власти. Мною в августе 1936 года была создана террористическая организация … Были связи с Николаем Заболоцким, Ольгой Берггольц, Борисом Пастернаком». (Николая Заболоцкого тогда посадили, Пастернака не тронули).
В тюрьме Берггольц продержали 171 день, к ней применяли методы физического воздействия, что окончательно подорвало её здоровье. Несмотря на это, она держалась стойко и не признала себя виновной. 3 июля 1939 года Ольгу освободили из-под стражи. Что сыграло главную роль в ее освобождении, сестра ли Ольги, Мария, добившаяся приема у самого Сергея Гоглидзе, в то время начальника Управления НКВД СССР по Ленинградской области, ранее подписавшего ордер на арест Ольги Берггольц, или начавшаяся чистка в рядах НКВД, сейчас трудно сказать. Следствие по делу было прекращено за недоказанностью состава преступления. Ольге вернули дневники с красными пометками следователя. «Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули ее обратно и говорят — «живи»… Выживу? Еще не знаю…».
Начавшаяся война отодвинула личные переживания. В блокадном городе были созданы лучшие поэмы, посвящённые защитникам Ленинграда: «Февральский дневник» (1942), «Ленинградская поэма» (1942). В 1943 году Ольга написала сценарий фильма о бытовых отрядах блокадного города, в итоге переработанный в пьесу «Они жили в Ленинграде», поставленную в театре Александра Таирова. После войны выходит книга Берггольц «Говорит Ленинград» о работе на радио во время войны. В 1950 году в журнале «Знамя» было опубликована поэма «Первороссийск», через год отмеченная Сталинской премией. В 1959-м опубликована книга «Дневные звезды», в основу которой положены те самые дневниковые записи Ольги Берггольц. Ольга задумывала «Дневные звезды» как первую часть книги, позволяющей понять и почувствовать «биографию века», судьбу поколения. (Не ощущаете переклички с «Доктором Живаго?»)
Но годы страшной всеобъемлющей лжи, годы мучительнейшего раздвоения, безвинные застенки, потери детей не прошли для Ольги Берггольц даром. Советский поэт и советский человека, с ранних лет убежденный в правоте всего, что делает государство, ставший символом блокадного сопротивления, Ольга Берггольц сильнее сопротивлялась попыткам власти использовать себя в идеологических целях. Все чаще прорывались искренние, из самой души, строки поэтессы:
На собранье целый день сидела —
То голосовала, то лгала…
Как я от тоски не поседела?
Как я от стыда не померла?..
Долго с улицы не уходила —
Только там сама собой была.
В подворотне — с дворником курила,
Водку в забегаловке пила…
В той шарашке двое инвалидов
(В сорок третьем брали Красный Бор)
Рассказали о своих обидах, —
Вот — был интересный разговор!
Мы припомнили между собою,
Старый пепел в сердце шевеля:
Штрафники идут в разведку боем —
Прямо через минные поля!..
Кто-нибудь вернется награжденный,
Остальные лягут здесь — тихи,
Искупая кровью забубенной
Все свои небывшие грехи!
И соображая еле-еле,
Я сказала в гневе, во хмелю:
«Как мне наши праведники надоели,
Как я наших грешников люблю!»
Весной 1952 года Ольга Берггольц с группой писателей, в которую входили Александр Твардовский, (наш, чистополец) и Юрий Герман, была командирована на строительство Волго-Донского канала, возводившегося силами заключенных. Вспомните Беломоро-Балтийский канал 1932-34-го годов — не изменилось ничего. «В начале 52-го, зимой и весной, — дважды Волго-Дон, — писала Ольга в дневнике. — Дикое, страшное, народное страдание. Историческая трагедия небывалых масштабов. Безысходная, жуткая каторга, именуемая «великой стройкой коммунизма», «сталинской стройкой». Это — коммунизм?! Да, люди возводят египетские сооружения, меняют облик земли, они радуются созданию своих рук, результату каторжных своих усилий, я сама видела это на пуске Карповской станции, на слиянии Волги и Дона, но это — радость каторжан, это страшнейшая из каторг, потому что она прикидывается «счастливой жизнью», «коммунизмом», она драпируется в ложь, и мне предложено, велено драпировать ее в ложь, воспевать ее… и я это делаю, и всячески стараюсь уверить себя, что что-то «протаскиваю», «даю подтекст», и не могу уверить себя в этом. Прежде всего, я чувствую, что должна писать против этого, против каторги, как бы она ни называлась. До сих пор я мычу от стыда и боли, когда вспоминаю, как в нарядном платье, со значком сталинского лауреата ходила по трассе вместе с гепеушниками и какими взглядами провожали меня сидевшие под сваями каторжники и каторжанки. И только сознание — что я тоже такая же каторжанка, как они, — не давало скатиться куда-то на самое дно отчаяния».
И чем чаще она понимала, что вынужденно участвует в общей фальшивой жизни, тем сильнее были ее страдания, выражавшиеся в многолетнем алкоголизме. Болезнь зашла так далеко, что в 1952 году Ольге Берггольц пришлось лечится от алкогольной зависимости в психиатрической больнице. И вот уже запрещена ее книга «Говорит Ленинград», уже пришло распоряжение изъять ее из библиотек. И никак не складывается главная книга Ольги Берггольц, книга о судьбе ее поколения, прошедшего через тюрьмы, допросы и пытки, через ложь и предательство друзей.
Ольга Берггольц умерла в шестьдесят пять лет. Некролог на смерть «блокадной музы» появился в газете «Ленинградская правда» только через пять дней, в день похорон, так долго ждали разрешения свыше.
А это отрывки из воспоминаний Александра Крона, тоже «нашего чистопольца», много лет дружившего с Ольгой Берггольц. «Обостренная способность к сопереживанию — один из самых пленительных секретов ее творчества… Ольга ни в чем не знала удержу и беречь себя не умела…Способность пылко отдаваться чувству бесконечно обогащала творчество Ольги Берггольц, но она же делала ее ранимой. Потери и разочарования становились для нее катастрофой, незаживающей душевной травмой… Другим прекрасным и опасным качеством Ольги была искренность. Она проявлялась не только в стремлении открыться, но и в неумении что-либо скрывать. Открытая в своих привязанностях, она не умела таить неприязнь. Ложь, трусость, чванство и фарисейство Ольга ненавидела до глубины души, и даже когда она молчала, приговор можно было прочитать на ее лице…Она не боялась наживать себе врагов. У нее было настоящее гражданское мужество — качество, по моим наблюдениям, более редкое, чем физическая отвага».
Найдете ли вы эти качества в ком-нибудь из современных писателей и поэтов?
Ну, а о том, как Ольга Берггольц была связана с нашим Чистополем — в продолжении статьи.
Фотографии, используемые в статье, взяты из открытых источников:
Я говорю за всех, кто здесь погиб.
В моих стихах глухие их шаги, их вечное и жаркое дыханье.
Я говорю за всех, кто здесь живет, кто проходил огонь, и смерть, и лед,
Я говорю, как плоть твоя, народ, по праву разделенного страданья…
Наверняка читатели уже догадались, а некоторые уже знали, что в Чистополе какое-то время проживали родители Ольги Федоровны Берггольц. Но, первым в Чистополь, вернее в пансионат Берсут, 6 июля 1941 года был отправлен племянник Ольги Федоровны — Миша Либединский. Миша — сын сестры Ольги Федоровны — Марии, Муси и Юрия Николаевича Либединского. Мария, актриса Московского Камерного театра — вторая жена Юрия Либединского. Вехи его жизни — комиссар на Гражданской войне, преподаватель курсов военных комиссаров, работник политотдела губвоенкомата, токарь Московского электромеханического завода, писатель, руководитель писательской организации Ленинграда, председатель Центральной ревизионной комиссии СП СССР. С 1937 по 1939 годы — «член троцкистской организации», но уцелел. С началом войны ушел в народное ополчение, помните — «писательская рота». Опять повезло, опять уцелел. Затем — корреспондент фронтовых газет «Красный воин» и «Красная звезда».
Миша родился в 1931-м. В Берсут, а затем в Чистополь попал уже достаточно взрослым мальчиком. В Чистополе недолго жил в интернате Литфонда. Вот что пишет о нем Елена Левина, Ёлка, дочь погибшего в Финскую войну (финскую кампанию, как скромно было объявлено народу) писателя Бориса Левина, как и многие другие писательские дети эвакуированная в наш город: «Он был правдив и наивен, романтичен и влюбчив… Ему часто доставалось. Главным обидчиком был Никита Бескин…В интернате Миша не прижился, пришлось переехать к любимой бабушке… В конце зимы приехала его мама, та самая Муся, по-прежнему красивая, в худеньком пальто и в летном шлеме, который был ей к лицу»… Мария Тимофеевна пробыла в нашем Чистополе недолго и вскоре вернулась в Москву. В феврале 42-го она добилась через партком Союза писателей отгрузки целого грузовика ценнейших продуктов для сотрудников ленинградского Радиокомитета. И сама сопровождала этот грузовик через Дорогу Жизни в осаждённый город. Увидев, в каком состоянии ее сестра, она смогла договориться о переправке Ольги на Большую землю для отдыха и реабилитации, после чего Ольга Берггольц снова вернулась в блокадный город и продолжала своими радиопередачами поддерживать ленинградцев. Мама Ольги Берггольц, Мария Тимофеевна, приехала в Чистополь со второй волной беженцев, уже в октябре 41-го. Где жила она с внуком, с дочерью и с мужем, мне установить не удалось. Папа Ольги Берггольц, Федор Христофорович, попал в Чистополь только осенью 1942-го. Этому его приезду предшествовали драматические обстоятельства.
С самого первого дня войны ленинградские немцы оказались «на прицеле» у НКВД. 26 августа 1941 года под грифом «совершенно секретно» Военный совет Ленинградского фронта выпустил постановление об обязательной эвакуации немецкого и финского населения из пригородных районов Ленинграда. Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. право подвергать административной высылке «социально опасных» лиц было дано военным властям на территориях, объявленных на военном положении. К «социально опасным элементам» власти причисляли немцев и финнов, проживавших в городе и области. По всей видимости, Федор Христофорович Берггольц был отнесен органами НКВД к гражданам немецкой национальности и, таким образом, попал под это постановление.
Всю жизнь Ольга Берггольц вела дневник. Он попадал вместе с ней в Большой дом на Кирова, возвращался обратно, весь в пометках следователя. Скрывался, закопанный в сарае: «Мусинька, — на всякий случай, — только на всякий случай, знай: мои дневники и некоторые рукописи в железном ящике зарыты у Молчановых, Невский, 86, в их дровяном сарайчике. Может быть, когда-нибудь пригодятся», из письма сестре 26 сентября 1941 года.
Из дневника Ольги Берггольц. «2.09.41. Сегодня моего папу вызвали в Управление НКВД в 12 ч. дня и предложили в шесть часов вечера выехать из Ленинграда. Папа — военный хирург, верой и правдой отслужил Советской власти 24 года, был в Красной Армии всю гражданскую, спас тысячи людей, русский до мозга костей человек, по-настоящему любящий Россию, несмотря на свою безобидную стариковскую воркотню. Ничего решительно за ним нет и не может быть. Видимо, НКВД просто не понравилась его фамилия — это без всякой иронии. На старости лет человеку, честнейшим образом лечившему народ, нужному для обороны человеку, наплевали в морду и выгоняют из города, где он родился, неизвестно куда».
Кем же был будущий житель города Чистополь Федор Христофорович Берггольц? Родился в 1885 году в семье строительного техника, специалиста по отоплению и вентиляции, латыша, уроженца Риги Берггольца Христофора Фридриховича. Учился в Петербургской Императорской Военно-медицинской академию на кафедре военно-полевой хирургии профессора Н. Н. Бурденко.
Осенью 1914-го года он был направлен в составе 39-го запасного полевого госпиталя на фронт, где в 1916 г. перенес тяжелую контузию с вывихом правой руки. В дальнейшем Федор Христофорович работал военврачом I ранга санитарного поезда, получившего после Октября 1917 г. название «Красные орлы». Его внук Михаил Либединский писал о деде: «Последним участием Ф. X. Берггольца в гражданской войне была его работа в составе медицинского отряда на льду Финского залива во время штурма мятежного Кронштадта. По семейному преданию, за личную храбрость он был награжден главнокомандующим Тухачевским именными часами фирмы Бурэ. Крышка с дарственной подписью Тухачевского потерялась, а часы долго жили в нашей семье».
В 1921–1922 гг. Федор Христофорович — врач хирургического отделения, а с 1941 г. — главный врач амбулатории и медпункта комбината тонких и технических сукон им. Э. Тельмана, с началом войны продолжал работу в амбулатории.
По воспоминаниям младшей дочери — Марии, Федору Христофоровичу была предложена альтернатива эвакуации — ему предложили стать секретным сотрудником НКВД, но он наотрез отказался. Ольга Берггольц пыталась защитить отца и обращалась к Я. Ф. Капустину — секретарю Ленинградского горкома ВКП(б), члену Военного совета Северного флота, занимавшегося эвакуацией заводов, оборудования и кадров Ленинграда в тыл страны.
Опять запись из дневника Ольги Берггольц. «5 сентября 1941 г. Завтра батька идет к прокурору — решается его судьба. Я бегала к т. Капустину — смесь унижения, пузыри со дна души и т. п.». Однако выселение финского и немецкого населения из Ленинграда осенью 1941 г. не состоялось: город уже был отрезан от Большой земли. Федор Христофорович остался в Ленинграде, но в покое его не оставили и периодически вызывали в УНКВД, куда ему приходилось добираться пешком через весь город.
Всю первую блокадную зиму Федор Христофорович разделял со всеми трудности осады города. Из дневника: «… организовал лазарет для дистрофиков, — изобретает для них разные кисельки, возится с больными сиделками, хлопочет — уже старый, но бодрый, деятельный, веселый»…
Весной 1942 г. Военный совет Ленинградского фронта вновь принимает постановления от 9 марта за № 00 713 и от 20 марта за № 00 714а о выселении финского и немецкого населения из Ленинграда и Ленинградской области [320]. На этот раз избежать принудительного выселения Федору Христофоровичу не удалось. 17 марта 1942 г. по 39-й статье (статья, запрещающая проживание в определенном перечне городов) он был выслан из Ленинграда через Ладогу и города Череповец, Вологду, Глазов, Минусинск в село Идра Красноярского края. По некоторым данным, к концу 1942 года депортировали 11 тысяч немцев, по другим — только в Красноярский край из Ленинградской области в 1942 году выселили почти 19 тысяч этнических немцев. Помните эти цифры — это еще и 19 тысяч умерших, неспасенных от голода и холода ленинградских детей, которые могли быть вывезены на Большую землю.
Запись в дневнике Ольги Берггольц: «27 марта 1942 года. Вчера из Вологды получили телеграмму от отца: «Направление Красноярск, просите назначить Чистополь. Больной отец».
Еще одна запись: «3 апреля 1942 года. «Получили письмо от отца, с какой-то станции Глазовой, от 28/III. Он пишет: «Родные мои, обратитесь к кому угодно (к Берия и т. д.), но освободите меня отсюда…кормят один раз в день, да и то не каждый день. В вагоне уже 6 человек умерло в пути, и еще несколько на очереди…силы гаснут, страдаю животом…простите меня за все худое»…
В Минусинск Ф. X. Берггольц приехал в середине апреля 1942 г. после месяца пути и сразу попал в больницу. После выписки из больницы он выехал из Минусинска в село Идра, где устроился работать врачом в сельской амбулатории.
Ольга Федоровна пишет заявления об отце, подает их московским партийным чиновникам, выступает в Клубе НКВД, просит Фадеева похлопотать о переводе отца в Чистополь. И Фадеев действительно помог. Он отправил телеграммы за своей подписью, подписью руководителя СП СССР, члена ЦК ВКП(б) в Красноярский обком и Минусинский горком — с вызовом Федора Христофоровича в Чистополь «на работу» и с просьбой помочь ему. В начале ноября 1942 года Федор Христофорович переехал из Минусинска в Чистополь к жене и внуку. 18 ноября на запрос Ольги Берггольц в Чистополь она получила ответ: «Все здоровы. Папа приехал, работает директором поликлиники. Получила твою фотографию. Пиши. Мама».
В Чистополе с 10 ноября 1942 г. по 28 августа 1943 г. Федор Христофорович Берггольц работал в госпитале и главным врачом поликлиники № 2.
В июне 1943 г. писательскую колонию реэвакуируют в Москву. Уезжают из Чистополя и Мария Тимофеевна Берггольц с внуком, а Федор Христофорович переезжает в Казань, работает в эвакогоспитале № 3652 врачом-ординатором, позже его переводят в Тулу в той же должности в эвакогоспиталь № 5865, который затем переформировывают в полевой фронтовой госпиталь. С июня 1944 г. Ф. X. Берггольц работает в Туле в эвакогоспитале № 5383. Во время высылки Федора Христофоровича ему в паспорт была вписана «39-я статья», запрещающая селится в крупных городах. После долгой борьбы его дочери, новый чистый паспорт Федор Христофорович получил только в феврале 1945-го, после чего смог вернуться в Ленинград. С апреля 1947-го постоянно находился в Военно-медицинской академии, больницах им. Урицкого и им. К. Маркса с диагнозами воспаление легких и сердечная недостаточность. Умер Федор Христофорович в больнице 7 ноября 1948 г., похоронен на Шуваловском кладбище.
Михаил Юрьевич Либединский, чистопольский мальчик Миша — историк, экономист, действительный член Историко-Родословного Общества г. Москва. Он написал подробную свою родословную, интереснейший документ, который можно найти в интернете, — «От пращуров моих…»
Его мама, сестра Ольги Берггольц — Мария Федоровна Берггольц после войны работала помощником главного режиссера по репертуару Ленинградского театра музкомедии. С 1972 года снималась в кино. Исполнила несколько небольших ролей в лентах «Синие зайцы, или Музыкальное путешествие», «Противостояние», «Подсудимый», «Фуэте». В последний раз появилась на экране в 2002 году в картине «Дневник убийцы» — сыграла комиссара Розу в старости.
Мария Федоровна очень много сделала для популяризации творчества своей сестры. После смерти Ольги Берггольц, Мария Фёдоровна весь остаток своей жизни издавала ее книги, бесконечно составляя сборники и подготавливая предисловия к ним, много выступала на радио, писала. В последние годы Мария Берггольц жила в нищенских условиях — в неремонтированной десятилетиями квартире, в которой даже горячая вода была проблемой.
Ушла из жизни 8 августа 2003 года.
В одном из писем 1941-го года Ольги Берггольц из Ленинграда своей сестре были еще и такие строки: «Если ты еще в Москве, то, наверное, это письмо передаст тебе Анна Андреевна. Было бы прекрасно, если бы ты вместе с нею поехала в Чистополь. Если поедете — береги и заботься о ней, как бы ты заботилась обо мне, если б я была больна. Она — изумительный человек; если б не Коля (Молчанов), которого я не могу оставить здесь одного, я почла бы первейшим своим долгом сопроводить ее до места. Проклятые фашисты очень напугали ее — им мы и это присчитаем, это подлое изнурение людей, драгоценных всему народу».
Как все сплелось в ту страшную войну.
Статья написана по ранее опубликованным материалам.
«Странники войны». Наталья Громова.
«Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы»
Громова Наталья Александровна
«Двойная жизнь Ольги Берггольц. Путь из комсомольского прошлого в трагические поэты». Наталья Громова. «Горби». Журнал нового мышления.
«Я всеми принят, изгнан ото всюду»…Перекличка, или Берггольциана. Татьяна Громова.
Письма О.Ф. Берггольц отцу, Ф.Х. Берггольцу (1942–1948)
Публикация Н.А. Прозоровой
Фотографии взяты из открытых источников:
Недавно сидели мы с Ринатом Ханафеевым за рюмочкой чая у меня на кухне. Говорили о планах на лето, сетовали, что нет в Чистополе светлого выставочного зала с профессиональным светом, достаточно просторного, чтобы увидеть его немаленькие работы. А за окном, в саду, бушевала весна. В этом году невероятно бурно цвели сливы и вишни. Яблони, словно белые облака, плыли по саду, на черешне, из-за цвета, листьев не видно было. Небо сияет лазурью — в общем, красота неописуемая. И тут нас осенило: «Давай сделаем выставку прямо в саду»! Сказано — сделано. Я собрал стеллажи, Ринат привез свои работы. Волнения были из-за погоды, дня три шел мелкий нудный дождь, да и прогноз на выходные не сулил ничего хорошего. Но к воскресенью распогодилось, правда подул свеженький такой ветер, картины летали по саду так, что пришлось придумывать незатейливый крепеж.
Но, все обошлось, видно, кто-то там, наверху, решил, что это хорошо! Практически все работы, за исключением двух-трех, в Чистополе впервые. Гостями были соседи по «Старой квартире», можно считать, что это была выездная посиделка, и еще несколько близких друзей. Простите, анонса не делали. Вернисаж получился очень камерным. Спасибо Раису Сулейманову и Аркадию Мошкину — они устроили просто великолепное музыкальное сопровождение. Если будут желающие увидеть работы Рината Ханафеева — пишите в личку.
Подумал, а может, лучше быль делать сказкой, как-то проще и доступнее, было бы желание…:
#нашчистополь #дворынашегодетства #экскурсиипочистополю
Спохватился, что остался незаконченным цикл постов о чистопольских дворах. Надо бы его дописать, одна проблема — не о чем больше рассказывать. Нет, конечно, можно рассказать о дворе усадьбы Чукашевых (кстати, как правильно. ЧукАшевых или ЧукашОвых?), той, что на Базарной — Архангельской — Володарского — Ленина. (Ленина 55/57, ОКН). Но рассказ этот будет о прошлом купеческого двора- о каретнике, в котором, вероятно, стояли и рабочие телеги, и выездные экипажи, о сеновале, набитым душистым сеном, о конюшнях, о заглубленном в землю леднике, из дверей которого всегда тянуло холодом, о крепких амбарах с крутой лестницей на чердак, о дворовых флигелях и летней кухне — обо всем том, без чего не бывает основательного купеческого хозяйства. Нет сегодня ничего из вышеописанного, не осталось. Снесли все. Нечего будет показать. Хотя я помню из своего детства, как в начале 60-х, мой дед, Николай Иванович, брал по осени в этом дворе из стойла лошадь, накидывал на нее хомут, затягивал супонь и заводил лошадь в оглобли. Я радостно прыгал на телегу, и тряслись мы с ним по булыжной мостовой в его дивный сад на Кулясова, чтобы свезти собранный урожай картошки, тыкв и всякой овощной мелочи в сарай, поближе к дому. В 20-х годах, после Великой Октябрьской, этот купеческий особняк, как водится, реквизировали, организовав в нем советский постоялый двор для приезжих — Дом крестьянина, благо купцы Чукашевы, как знали, позаботились о постройке необходимых помещений. Ведь передвигались командировочные по уезду, кантону, потом району в основном на телегах да на тарантасах, вот и пригодился вместительный двор с полным набором служб. Во время войны часть дома была занята интернатом Литфонда, затем в правом крыле была организована Чистопольская детская музыкальная школа, но до конца 60-х во дворе стояли лошади и можно было вот так арендовать самодвижущееся средство, своего рода «каршеринг».
Двор этот, помимо своего «купеческого» прошлого, знаменит хотя бы тем, что в нем был устроен огород для воспитанников интерната Литфонда. Как это происходило, описала в своих воспоминаниях Зинаида Николаевна Пастернак, работающая в нем сестрой-хозяйкой. «Это было ранней весной (1943-го года). У нас в детдоме решили посадить огород в виде подсобного хозяйства. Директор Фанни Петровна (Коган) не могла без меня обойтись и просила меня пока не уезжать. Я заболела плевритом и перебралась в Борину комнату. Он за мной ухаживал и все время настаивал, чтобы, как только я поправлюсь, я бы ехала с ним в Москву. Болела я целый месяц, и за это время Фанни Петровна окружила место для огорода забором. Она приходила меня навещать и уговаривала отсрочить поездку в Москву хотя бы на две недели после выздоровления. Я была между двух огней. Мне очень хотелось в Москву, и вместе с тем я чувствовала, как непорядочно было бы бросить детдом и не помочь им создать подсобное хозяйство для детей. Я уговаривала Борю подождать еще две недели после болезни, и он согласился.
Едва передвигая ноги от слабости, я пошла с Фанни Петровной посмотреть участок, выбранный для огорода. Она сказала, что я буду только распоряжаться работами и самой мне работать не придется. Но когда я взяла лопату, попробовать, какая там земля, то оказалось, что это бывший извозчичий мощеный двор и под землей сплошные камни и балки. Я упрекнула Фанни Петровну в легкомысленном поступке: она потратила государственные деньги на забор, не попробовав, можно ли здесь копать, и это подсудное дело. Но положение было безвыходное, и нужно было ее выручать.
На другой день я устроила общее собрание. В штабе было сорок восемь человек. Я разбила их по восемь человек, и каждая бригада должна была выходить со мною по очереди на работу. Как и всегда, нужно было заразить их своим примером, и, забыв про болезнь, я стала с ними копать. Чего мы только не выкапывали! Иногда все вместе вытаскивали тяжелые камни и бревна. Приходил Боря, помогал в работе, поддерживал своими шутками и обаянием коллектив.
Через несколько дней площадка была готова. Почва, обильно удобренная навозом, оказалась отличной. Боря говорил, что все в полном порядке и я могу уже уезжать. Но тут азарт взял верх, мне захотелось сначала все посадить, а потом уже ехать. Мы посадили помидоры, огурцы, капусту. Уезжала я с сомнением в душе: выйдет ли чего из этого дела. Но в сентябре мне прислали фотографии этого огорода. Кусты гнулись от помидоров невероятной величины, огурцы были длиной в пол-аршина, а тыквы такие, что втроем тащили до дому. Фанни Петровна была счастлива, писала мне нежные письма и благодарила за то, что я выручила ее и спасла от суда».
Как, наверное, вы поняли, Боря — это Борис Леонидович Пастернак.
Есть еще несколько дворов, куда, конечно же, стоит заглянуть, но все они в частном владении, и пустят ли туда — это вопрос договоренности с хозяевами. Но за деревянными воротами в таких дворах вот уже более века скрывается сохранившийся набор металлической фурнитуры: засовы, задвижки, петли, щеколды, пробои, навесы и еще всякая всячина, название и назначение которой сегодня трудно угадать. В таких дворах можно войти в широкие распашные ворота амбара, подняться по деревянной лестнице на чердак, увидеть в каретнике разобранную до поры пролетку, подивиться простоте и надежности устройства сеновала — проем для засыпки сена в ясли будет находиться точно над сохранившейся кормушкой. Можно увидеть, как экономны были наши предки, устраивая внутренние перегородки длиннющего хозяйственного строения из распущенных пополам бревен — в полуус. Вот только увидеть сохранившуюся до нашего времени обвершку — деревянный навес над воротами и калиткой у вас не получится — время не пощадило. Те, которые можно сегодня найти, все более поздней постройки, и все обиты железом.
Можно, конечно, порыскать по задворкам купеческих особняков, и, если повезет, вы найдете там случайно сохранившийся маленький дворовый флигелёчек о двух окошках, второй такой, с металлической решеткой на оконце, снесли пару лет назад, отыщите за старой деревянной лестницей едва видимую в пыльной темноте прочную металлическую дверь в купеческую лавку, или неожиданно наткнетесь на старую дверную ручку. забытую на полотне двери, ведущей в никуда.
Чистополь, город хлеботорговцев, и был он богат своими просторными дворами. Они до последнего сопротивлялись безжалостному человеку. Дворы торговых лавок, дворы хлебных скупок, хозяйственные дворы — это все прошлое Чистополя. А уж как интересен был обширный и многообразный гостиничный двор! Не забывайте, что поначалу, до так называемых «номеров», на этом месте, как правило, существовал постоялый двор, коих в Чистополе было несколько десятков.
Мой давний корреспондент, Людмила Янилкина, оставила описание двора своего детства. Она жила в доме Дерягина, в том, в котором когда-то располагались номера «Европейские», сегодня это К. Маркса 23, и с соседним домом у них был общий двор. « В соседнем дворе (дом 2-х этажный, низ полуподвал каменный, второй этаж деревянный, снесен в середине 90-х), было необычно большое количество старинных сараев и конюшен. Здесь мог быть постоялый двор. В каждом дворе были серьезные надворные постройки: дровяные сараи, т. к. все отапливалось дровами, конюшни с сеновалами — каждый владелец дома имел несколько коней, большие сараи с различными конными повозками ( тарантасы, телеги, сани и др.), погреба. Во времена моего детства все постройки были еще довольно крепкими и детвора росла, радостно бегая по всем крышам. Замечательный двор был по К.Маркса 25. Въезд во двор и далее до заднего конного двора, был выложен булыжником, как проезжая часть в городе. Задний конный двор был великолепен: зимняя теплая и летняя конюшни, специальный колодец для коней и коров, специальная крытая просторная терраса с поручнями для стоянки коней в теплое время, сараи для дров и сеновалы для хранения сена. Кстати, такие же конюшни и сеновалы были и во дворе Дома учителя».
Немудрено, что по воспоминаниям Людмилы Янилкиной, двор Дома учителя был похож на описанный ее родной двор. Ведь по соседству с Домом учителя находилась гостиница чистопольского мещанина Мартынова, а еще ранее — его постоялый двор. Сегодня этого здания нет, его адрес был бы К. Маркса 26. Дома нет, но сохранилась фотография дома Мартынова, которую я с удовольствием покажу.
На этом можно было бы и закончить описания чистопольских дворов. Их, тех, в которые можно войти, осталось совсем немного, еще меньше тех, в которых сохранились здания, аутентичные той дореволюционной эпохе. С каждым годом под предлогом аварийности сносятся дворовые постройки. Конечно, если с дома содрать крышу, через пару лет он станет аварийным, опасным для жизни. Еще одна современная традиция — снести все постройки и закатать двор в асфальт. Помните, в самой первой статье я рассказывал о дворе, в котором после сноса сараюшек обнаружилась удивительной красоты металлическая дверь. Нет, дверь еще на месте, а вот сам двор все-же решили залить асфальтом, чтобы сделать в нем стоянку для легковых машин сотрудников бюджетных предприятий, расположенных в этом дворе, которые что-то учитывают, контролируют, организуют, подсчитывают, направляют и указывают нам правильный путь. Вот только куда?
В Санкт-Петербурге один из интереснейших экскурсионных маршрутов — по питерским дворам, и пользуется спросом, между прочим. Есть там маршруты по парадным, по крышам — ну, на крыши мы не полезем, а вот старые лестницы в купеческих особняках не менее интересны и красивы, чем в Питере. Обязуюсь это доказать:
часть 1
#нашчистополь #чистопольлитературный ‘#экскурсиипочистополю
Любим мы использовать в своей речи литературные штампы, говорю о себе в первую очередь. Как часто мы их изрекаем, даже не вдумываясь в смысл, а уж в то, соответствуют ли они действительности… Особенно заметны эти шаблонные, затертые до дыр словосочетания при описании эвакуации во время войны в наш Чистополь большой плеяды членов Союза писателей СССР.
« Советская литература в тяжелые годы Великой Отечественной войны пережила большой патриотический подъем, наглядно продемонстрировав еще раз всему миру, что она является самой идейной, самой передовой, самой жизнеспособной литературой». В.А. Климентовский, «Русские писатели в Татарии», 1976 год.
«…Настоящая, подлинная, сурово-правдивая литература создавалась не только под свист пуль и снарядов, во фронтовой землянке, но и далеко в тылу». «Чистопольские страницы», сборник, 1987 год.
«Одним из центров литературной жизни страны Чистополь стал в годы Великой Отечественной войны, когда сюда эвакуировали более двухсот мастеров словесного творчества». Вступительная статья к энциклопедии «Чистополь литературный», 2017 год.
«Исключительная, уникальная…эвакуация в захолустный Прикамский город на целых два года известных всей стране и миру писателей»… «Борис Пастернак в Чистополе. 1941-1943» Н. Валеев, 2024 год.
«Более 150 советских писателей нашли приют в Чистополе. В числе первых прибыли Н. Асеев, М. Исаковский, К. Тренев, К. Паустовский, Л. Чуковская. На последнем в навигации 1941 года пароходе 18 октября приехали А. Ахматова, Л. Леонов, К. Федин. Б. Пастернак. Здесь в Чистополе расположилось правление Союза писателей». «Чистополь и чистопольцы», сборник, 2004 год.
Более двухсот (как вариант — ста пятидесяти) известных всему миру мастеров словесного творчества, центр литературной жизни страны, правление Союза писателей СССР в Чистополе…
Если начать с самого простого, с последней цитаты, то в Чистополе никогда не было правления СП СССР. На памятной доске Дома учителя — ошибка, которых, впрочем, много в Чистополе. К слову, Союза писателей в стране тоже не было, до 1954 года эта организация тогда называлась Союзом Советских писателей. Да, был в Чистополе общественный Совет эвакуированных писателей, руководимый Константином Фединым, был женсовет, возглавляемый какое-то время Ангелиной Степановой, женой Александра Фадеева, и еще было горячее желание, не только, впрочем, у новых чистопольских горожан с литературными способностями, называть себя отделением ССП СССР, те же устремления были и в Молотовской (Пермской) колонии писателей, и в Куйбышевской (Самарской), и в Свердловской, и в Ташкентской, и в Алма-Атинской. Некоторые письма из Чистополя так и были подписаны: «Председатель отделения ССП К. Федин». А что же было на самом деле? А на самом деле были уполномоченные Правления ССП на местах:
Приказ № 2а по Правлению ССП СССР
26 ноября 1941 г.
В дополнение к приказу № 1-6 утвердить штат сотрудников со следующими окладами:
1) Федина К. А. — уполномоченным Правления в г. Чистополе с 12 ноября с. г. — 750 р.
2) Глебова А. Г. — оргсекретарем в Чистополе с 12 ноября с.г. — 750 р.
3) Арутчеву Е. А. — референтом с 25 ноября с.г. — 340 р.
4) Караваеву А. А. — уполномоченным Правления в Свердловске с 1 ноября с. г. — 750 р.
5) Кирпотина В. Я. — уполномоченным Правления в Ташкенте с 1 ноября с.г. — 750 р.
6) Савельеву М. И. — курьер-уборщица с 1 ноября с.г. — 120 р.
Зам. секретаря президиума Союза советских писателей СССР М. Аплетин
РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 2. Д. 563. Л. 4. Подлинник. Машинопись.
750 рублей, много это или мало? Для сравнения — оклад директора Чистопольского краеведческого музея драматурга Николая Виноградова-Мамонта осенью 1941-го составлял 550 рублей.
«Более 200 мастеров словесного творчества…», вероятно, членов ССП?.. В известном перечне, который называется «Чистопольская писательская колония» — 181 фамилия, причем в писатели зачислены и актриса МХАТ Ангелина Степанова, актриса Людмила Кайранская, и начинающие в Чистополе свою театральную деятельность Цецилия Воскресенская (тогда она была еще Сельвинской, кстати) и Нина Федина, и художники Александр Плигин, Борис Винокуров, Николай Сычев, Надежда Блюменфельд, Ева Левина, Мария Синякова-Уречина, две польские художницы, следы которых совсем затерялись, скульптор Магдалина Крамарева, скрипачка Елена Лунц, пианистка Елизавета Лойтер, и, даже, начальник Управления по охране авторских прав Григорий Хесин, и много еще кто. Историк, библиограф и мемуарист Валентина Антипина, отыскав и изучив в архивах сотни авторских публикаций, воспоминаний и писем, и издав в 2005 году великолепную монографию «Повседневная жизнь советских писателей 1930 — 1950-е годы», пишет в этой книге, что в начале войны в наш Чистополь было эвакуировано 76 членов Союза Советских писателей.
Осенью 41-го, напуганные стремительным приближением фронта к Москве, большАя часть литераторов выехала из Чистополя в Ташкент. Среди них Маркиш Перец, Константин Паустовский, Виктор Шкловский, Евгений Петров (Катаев), Всеволод Иванов, Валерий Кирпотин, Виктор Ардов, Лидия Чуковская, Анна Ахматова. Кто-то, как Лев Ошанин, Елена и Борис Успенские в первую же осень выехали в Казань. Не привлекал их Чистополь. И не их одних. Среди бегущих от чистопольской беспросветной грязи, уныния и бескультурья был и Леонид Леонов. 1 января 1942 года он пишет в письме: «Уехав на неделю (из Москвы) в Чистополь, я нашел семью в ужасном положении… и вместо недели пробыл две в этом тихом и противном городке. Когда же отправился назад, в Москву, то уже в Казани нашел Союз писателей, и меня вернули обратно». Так Леонов, фактически волею случая, ненадолго, стал «чистопольцем» — в октябре Москва уже находилась на осадном положении и никого к себе не принимала. (В мае 42-го Леонов все-таки сбежал из Чистополя, приехав лишь на постановку своей пьесы «Нашествие»). Хотели сбежать из Чистополя и вывезти свои семьи и Михаил Исаковский, и Владимир Билль-Белоцерковский, и жена Алексея Суркова Софья Кревс. 27 октября 1941 года они обратились за помощью к Самуилу Яковлевичу Маршаку, члену Правления ССП. Маршак не помог.
Первой военной зимой «Двенадцать апостолов», двенадцать добровольцев из числа военнообязанных отправились в Москву в распоряжение ГлавПУРа, еще более уменьшив численность писательской колонии. Некоторые — Арсений Тарковский, Павел Шубин и Всеволод Багрицкий стали фронтовыми или армейскими корреспондентами, а кто-то осел в Москве, выбираясь в действующую армию в командировки.
Вновь обратившись к Валентине Антипиной, прочтем, что к весне 1942 года в Чистополе осталось 45 писателей. Для сравнения — в Казани — 23, в Елабуге — 6, в Алма-Ате — 33, в Ташкенте — 103. Напомню, писателей — это значит членов ССП, быть писателем и не состоять членом Союза — в те времена, впрочем, как и сейчас, было невозможно. Дольше всех держалась Анна Андреевна Ахматова, они вступила в ССП лишь в 1939 году, но, к тому времени, он уже превратился в… А во что он превратился, для чего был создан? Кем были тогда советские писатели, какие великие произведения рождались бессонными ночами? Вспомнил, что Марина Цветаева так и удостоилась чести стать советским поэтом, то есть стать членом ССП, ее допустили лишь до групкома Союза Сов. писателей, что совсем не одно и то же.
Вы правы, нельзя не вспомнить писателей и поэтов, фронтовых корреспондентов, приезжавших к своим семьям в наш Чистополь. Причины и сроки пребывания были у всех разные. Василий Гроссман прилетал в сентябре 1942 на похороны своего пасынка. Илья Сельвинский, пожалуй, дольше всех задержался в Чистополе, на целых полтора месяца, после полученного ранения на Южном фронте. Евгений Долматовский ненадолго приезжал после побега из Уманского лагеря и прохождения проверки. Вера Инбер приезжала к дочери на несколько дней после смерти своего внука. Алексей Сурков, Александр Твардовский по нескольку раз, совсем ненадолго приезжали к своим семьям, Александр Фадеев пробыл в Чистополе целых две недели, потом замучался оправдываться перед ЦК РКП(Б) в том, что бросил на произвол судьбы весь Союз писателей. Корней Чуковский приезжал на пару дней в Чистополь, чтобы забрать свою дочь в Ташкент. Кто-то из них успел выступить на чистопольском радио, кто-то — прочесть свои стихи со сцены Дома учителя, а некоторые, даже насладиться пирогами в доме Дмитрия Авдеева.
В Чистополь были эвакуированы и литературные и театральные критики, публицисты, очеркисты, литературоведы, но причислить их к когорте «известных всему миру мастеров словесного творчества» было бы большой натяжкой.
Кем же были эвакуированные в наш город «гиены пера, шакалы ротационных машин», как образно назвал их… написал и задумался, ведь роман «Золотой теленок» неразрывно принадлежит перу двух, действительно, писателей — Илье Ильфу и Евгению Петрову (Катаеву), и чья эта гениальная фраза теперь не установить. Были они «террариумом сподвижников», по меткому выражению Владимира Богомолова, или же дружной семьей единомышленников, какой их обычно изображают в современной литературе?
Мы часто и с глубоким почтением вспоминаем «Серебряный век», период расцвета русской культуры, пришедшийся на рубеж XIX и XX веков. Он вобрал в себя не только литературу, но и живопись, музыку, театр, философию и архитектуру. Поиск нового языка самовыражения, охвативший все сферы искусства — вот что такое «Серебряный век». «Серебряный век» — это бурное развитие новых художественных направлений, поиск новых форм выражения, это философское осмысление бытия. «… Тогда было опьянение творческим подъемом, новизна, напряженность, борьба, вызов»,- Николай Бердяев.
В литературе «Серебряный век» породил массу течений: русский символизм — петербургские писатели Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Федор Сологуб (все уехали из страны), московские — Валерий Брюсов, Константин Бальмонт, Александр Блок, Андрей Белый; акмеизм -Николай Гумилев, Анна Горенко — Ахматова (наша?), Михаил Зенкевич (наш, «чистопольский», если кто забыл), Осип Мандельштам; авангардный футуризм — Игорь Северянин, Велимир Хлебников, Давид и Николай Бурлюки, Владимир Маяковский; имажинизм — Сергей Есенин, Николай Эрдман. В своей неповторимой манере, которую нельзя втиснуть ни в одни рамки писали Борис Пастернак и Марина Цветаева. И заметьте — практически все упомянутые писатели и поэты имели прекрасное образование, подчас, как Пастернак, не одно, владели несколькими европейскими языками, знали историю и культуру своей страны.
Творить во имя искусства, не думая о признании, не оглядываясь на общество, искать новые пути самовыражения, играть со словами, фразами, звуками, строчками, ломать стереотипы — это все поэты «Серебряного века». А какие, интересно, были тиражи у этих новаторов пера? 3 книжки «Русские символисты», изданные Брюсовым в 1894 году, имели тираж по 200 экземпляров. Андрей Белый в 1904 году напечатал «Золото в лазури» –несколько сотен экземпляров. Блок, уже имевший некоторую известность по журнальным публикациям, в 1905 году издал «Стихи о Прекрасной Даме» (144 страниц, 129 стихотворений) тиражом 1200 экземпляров. Николай Гумилёв на средства родителей выпустил в 1905 году книжку «Путь конквистадоров» (76 страниц) тиражом 300 экземпляров, в 1910 году – «Жемчуга», 1100 экземпляров. Первая книга Осипа Мандельштама, «Камень» (23 стихотворения), вышла в 1913 году тиражом в 300 экземпляров, на средства автора; У Анны Ахматовой первый сборник стихов «Вечер» вышел в 1912 году в издании «Цеха поэтов» тиражом 300 экземпляров. «Вечерний альбом» Марины Цветаевой (224 страницы) издан в 1910 году тиражом 500 экземпляров на «карманные» деньги автора. Маяковский, «Я!», 1913 год– 300 экземпляров. Пастернак, «Близнец в тучах», 1914 год – 200 экземпляров. Есенин, «Радуница», 1916 год – 900 экземпляров.
1917-й год — перелом в истории развития империи под названием «Россия». Новые лозунги: «Вся власть Советам»! «Мир народам, землю крестьянам, фабрики рабочим!», «Мы наш, мы новый мир построим, кто был никем, тот станет всем!» Вернули, построили… Разруха, голод, война всех против всех, наведение порядка железной рукой (Троцкого и Дзержинского), диктатура пролетариата, продразверстка, детские дома, НЭП. Империя кокаина и сексуальной революции, где жесточайшая политическая диктатура соединялась с невиданной свободой нравов, вспомните теорию «Стакана воды» и движение «Долой стыд!», границы семьи стали неопределенны и размыты. Примеров — хоть отбавляй, появилась страна Арманд, Бриков, и Коллонтай.
Кроме всего, появилось и новое пролетарское искусство. Толкаясь локтями, оно боролось за свое место среди отжившего прошлого. Нет, конечно, еще собирали залы Владимир Маяковский и Илья Сельвинский, еще блистали Осип Мандельштам и Анна Ахматова, еще был кумиром молодежи Борис Пастернак, но появились и направления, названия которых говорят сами за себя: «Ничевоки», провозглашавшие своей целью «истончение поэтпроизведения во имя ничего»; сменовеховцы, выступавшие за примирение и сотрудничество с Советской Россией, мотивируя свою позицию тем, что большевистская власть уже «переродилась» и действует в национальных интересах России (какие знакомые слова!)
В 1922 году возник ЛЕФ — левый фронт в искусстве, куда входили Владимир Маяковский, Борис Пастернак (и ты, Брут!), Николай Асеев, Виктор Шкловский, Осип Брик, Сергей Кирсанов. Лефовцы стали считать искусство простой ступенью к участию художника в производстве (»Я тоже фабрика, А если без труб, то, может, мне Без труб труднее», — писал Маяковский). Каждая область искусства, согласно концепциям ЛЕФа, должна была осмыслить свою технику в тех понятиях и представлениях, которыми пользовалось производство. Искусство должно было раствориться в производстве, стать его частью. Борис Пастернак, правда, вскоре вышел из этого общества, хотя лефовцы долгое время включали громкое имя в свои списки, и более ни к кому и ни к чему не прислонялся, вступив, тем не менее, в 1934 году в ССП СССР.
В 1923 г. Корнелием Зелинским и Ильей Сельвинским было провозглашено авангардное течение с установкой на поэтический эксперимент — «конструктивизм», к которому примыкали Владимир Луговской, Вера Инбер, Эдуард Багрицкий. В своих программных сборниках они именовали себя выразителями «умонастроения нашей переходной эпохи», сторонниками «техницизма», игнорирующими национальную природу искусства, а свой метод определяли как «итог мирового масштаба». Один лозунг конструктивистов — «Смерть искусству!», чего стоит.
В начале февраля 1921 г. несколько молодых писателей при Петербургском Доме Искусств образовали группу «Серапионовы братья» (по названию кружка друзей в одноименном романе Эрнста Гофмана). В нее вошли Всеволод Иванов, Константин Федин, Николай Тихонов, Михаил Зощенко, Вениамин Каверин, Марк Слонимский. Максим Горький в 1922 году писал: «Серапионовы братья — самое значительное и самое радостное в современной России».
В 1927 году появились и быстро исчезли «обэриуты» — Даниил Хармс, Николай Заболоцкий. Обэриуты играли со звуками, как с мячиками, для их поэзии характерны алогизм, гротеск, столкновение смыслов, в их творчестве явно прослеживается предвосхищение «тетра абсурда».
Но, все же, главным порождением Октября в литературе стали «Пролеткультовцы» — пролетарская литература, со временем вытеснившая все остальные течения и переродившаяся в 1930-м году в Российскую Ассоциацию Пролетарских Писателей — РАПП. Концепция пролетарской культуры с утверждением пролетарского начала, оказалось чрезвычайно распространенной в идейно-художественной жизни первых лет революции. Почти во всех крупных городах страны существовали отделения Пролеткульта и свои печатные органы. Это была механистическая, абстрактная теория пролетарской культуры, в которой индивидуальность, личность — «Я» — подменялась безликим, коллективным «Мы», к чему в полной мере мы сегодня вернулись. «Я» — ничто, только «Мы», только коллектив. (Опять аберрация во времени).
#нашчистополь #чистопольлитературный ‘#экскурсиипочистополю
На I Всероссийском съезде пролетарских писателей в Москве в октябре 1920 года была учреждена Всероссийская Ассоциация Пролетарских Писателей — ВАПП. В нее входили литературные группы «Кузница», «Молодая гвардия», «Октябрь», «Рабочая весна», «Вагранка». Названия-то какие крепкие, мускулистые! Писателей и поэтов, входящих в ВАПП «..объединяло ощущение нового мира как своего и безудержная любовь к нему», — Александр Фадеев. Задача писателей ВАППа — «строительство своей классовой культуры, а, следовательно, и художественной литературы».
И вот что удивительно, время — страшное, жизнь — сегодняшний день, голод, нищета, разруха, а молодой стране нужна была поэзия, поэзия разная, поэзия свободного слова и свободного эксперимента, поэзия рубленых строк и поэзия мелодического строя, поэзия, наполненная метафизическими образами и поэзия, воспевающая родные березы и будящая тоску по оставленной в недалеком прошлом деревне. Любители поэзии заполняли салоны, залы, сцены, площади. Фанаты Маяковского и Сельвинского в драке выясняли, кто из их кумиров более поэт. Поневоле хочется воскликнуть: «Да, было время!»
Уже к середине 20-х годов писатели страны разделились на две группы, собственно пролетарских писателей и «Попутчиков». Этот термин впервые использовал Анатолий Луначарский, первый народный комиссар просвещения, покровитель искусства.
М. Герасимов, В. Александровский, Г. Санников, С. Родов, Н. Полетаев, В. Казин, Ф Васюнин. Вл. Кириллов — знаете их? А ведь они ведущие, как сегодня бы сказали — известные «пролеткультовцы» из группы «Кузница». Вот строчка Вл. Кириллова: «Во имя нашего Завтра — сожжем Рафаэля, разрушим музеи, растопчем искусства цветы».
Возможно, только имена, входившие в золотой фонд пролеткультовцев нам знакомы — Николай Островский, Дмитрий Фурманов, Александр Фадеев, Михаил Шолохов. Все.
Посмотрим список «попутчиков». Ба, знакомые все лица — Борис Пастернак, Сергей Есенин, Юрий Олеша, Исаак Бабель, Алексей Толстой, Андрей Платонов, Корней Чуковский, Михаил Зощенко, Леонид Леонов, Константин Паустовский, Михаил Маршак, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Михаил Булгаков, Илья Ильф и Евгений Петров. Наверняка, кого-то и забыл. И что интересно, «попутчики» поначалу тоже были за советскую власть, вполне искренно восхищались Владимиром Ильичом, революцией. И что же, вы думаете, что «попутчики» пользовались теми же привилегиями, что и пролеткультовцы? Поначалу, где-то до середины 20-х годов, пока на разношерстное писательское сообщество не обратились взоры партии и Самого, — да, пользовались. Писали без оглядки, издавались, как могли и где могли. Но уже 9 мая 1924 года появилось письмо в Отдел печати ЦК ВКП(б), жалоба, подписанная 36-ю писателями «попутчиками».
«…Мы считаем, что пути современной русской литературы, — а стало быть, и наши, — связаны с путями Советской пооктябрьской России. Мы считаем, что литература должна быть отразителем той новой жизни, которая окружает нас, — в которой мы живем и работаем, — а с другой стороны, созданием индивидуального писательского лица, по-своему воспринимающего мир и по-своему его отражающего. Мы полагаем, что талант писателя и его соответствие эпохе — две основных ценности писателя…Мы приветствуем новых писателей, рабочих и крестьян, входящих сейчас в литературу. Мы ни в коей мере не противопоставляем себя им и не считаем их враждебными или чуждыми нам. Их труд и наш труд — единый труд современной русской литературы, идущей одним путем и к одной цели. Новые пути новой советской литературы — трудные пути, на которых неизбежны ошибки. И наши ошибки тяжелее всего нам самим. Но мы протестуем против огульных нападок на нас. Тон таких журналов, как «На Посту», и их критика, выдаваемые ими за мнение РКП(б), подходят к нашей литературной работе заведомо предвзято и неверно. Мы считаем нужным заявить, что такое отношение к литературе не достойно ни литературы, ни революции и деморализует писательские и читательские массы…» Среди подписантов В. Катаев, Б. Пильняк, А. Толстой, С. Есенин, О. Мандельштам, И. Бабель, М. Волошин, В. Инбер, М. Пришвин, М. Зощенко, Н. Тихонов, А. Толстой, В. Каверин, Вс. Иванов, М. Шагинян и другие.
Самой мощной литературной организацией 20-х годов была Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП), официально оформившаяся в январе 1925 года. Рапповцы аттестовали себя как «неистовых ревнителей пролетарской чистоты». Именно в рапповцы переходили писатели и поэты из других творческих объединений, вызывая склоки и и ненависть среди остающихся. Центральный орган РАПП «На литературном посту» требовал установления гегемонии пролетарских писателей административным путем, посредством передачи им органов печати, вытеснения «попутчиков» из журналов и сборников. Это и привело к тому, что к концу 20-х годов фактически исчезли все непролетарские писательские группы. Партия и идеология стали первичными признаками писательства, талант — вторичен! При такой расстановки акцентов вполне естественно, что главными людьми среди писателей были отнюдь не писатели, а критики, «литературные комиссары», среди которых, поначалу, до расстрела в 38-м, особо блистал Леопольд Авербах — глава РАППа и, по совместительству, зять Генриха Ягоды.
Но даже и такой расклад в писательской среде не устраивал Неистового горца! На самом верху было принято решение свести всех пишущих, критикующих и публикующихся людей в единый Союз — Союз Советских писателей. Партия должна была руководить всем, в том числе и «инженерами человеческих душ».
Вообще, Сталин занимался литературой и искусством больше, чем любой руководитель России до и после него. Вот для Ильича, к примеру, «из всех искусств, важнейшим являлось кино», Никита Сергеич памятен разгромом выставки художников-авангардистов — «п…сы», хотя и хрущевскую недолгую оттепель нельзя забывать. Леонид Ильич сам не чужд был писательскому труду, его «Малую землю», «Возрождение и «Целину», написанные, конечно, коллективом авторов, навязывали к изучению в школе, Юрий Владимирович — писал стихи, говорят, неплохие, но Иосиф Виссарионович именно руководил, вникал до тонкостей, направлял и одергивал и, если надо, определял, в том числе, кому жить, а кому умирать. Он, кстати, по свидетельству современников, был очень читающим человеком. На его рабочем столе часто можно было увидеть «Бесов», Достоевского, все в пометках красным карандашом.
Императорская власть считала литературу все-таки частным занятием, в СССР же никаких «частных занятий» в принципе быть не могло — а уж тем более в идеологии. Все дела были только государственными. «Плановыми» были не только тиражи и гонорары, но и содержание литературы и искусства. Власть, в лице Хозяина страны, хотела определять не только что писать, но и как писать. Писатели, под руководством литературных комиссаров, чье благосостояние, а, порой и жизнь, полностью зависели от расположенности Самого, должны были создать новую литературу, не просто лояльную власти, а социалистическую по сути. Эта новая литература получила название — соцреализм. Мало того, отныне писатели не просто должны были описывать строительство социалистического общества и социалистических отношений, они должны описывать их такими, какими их хотели бы видеть руководящие и надзирающие органы страны. Именно для выполнения этой масштабной эпической задачи были разогнаны и распущены все творческие группы и объединения, включая РАПП, и все писатели объединялись в Союз Советских Писателей СССР, поначалу он назывался именно так.
Первый Всесоюзный съезд писателей открылся 17 августа 1934 года. Готовился он тщательно и долго — целых два года. 23 апреля 1932 года вышло Постановление Политбюро РКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций». Согласно ему «…существующие пролетарские литературно-художественные организации превращаются в средство культивирования кружковой замкнутости… Исходя из этого ЦК ВКП (б) постановляет: ликвидировать ассоциацию пролетарских писателей (ВОАПП, РАПП); объединить всех писателей, поддерживающих платформу советской власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве в единый Союз Советских писателей с коммунистической фракцией в нем». Александр Гладков, будущий автор пьесы «Давным-давно» — «Гусарская баллада» и будущий «наш, чистополец», записал в дневнике: «Третьего дня ЦК разогнало РАПП. …Что будет, еще неизвестно, но дышать, очевидно, будет легче. Кажется, для нас (беспартийных), расчищается дорога». Щас. 7 мая 1932-го Политбюро ВКП(б) утвердило «оргкомитет ССП». 22 человека во главе с почетным председателем Горьким. Председателем был назначен Иван Гронский, журналист, редактор «Известий» и «Нового мира», естественно, член партии с 1918-го. Вошел туда Фадеев, Киршон, Безыменский, и другие деятели РАПП-ВОАПП. Были там и будущие руководители ССП СССР, «беспартийные большевики» Константин Федин («наш»), Н. Тихонов и Леонид Леонов(»наш»). Надо заметить, что Леонов — уникальная фигура, он был членом правления ССП — СП СССР от основания до ликвидации в 1991-м! Что помогало Леониду Максимовичу держаться во главе советской литературы — догадайтесь сами, но, вряд ли только талант писателя. Знаковое событие произошло 26 октября 1932 года — знаменитая встреча Сталина и других членов Политбюро — Молотов, Каганович, Ворошилов, Постышев с писателями в особняке Горького. Слово берет Сталин: «Есть разные производства: артиллерии, автомобилей, машин. Вы тоже производите ТОВАР. Очень нужный нам товар — души людей».
Политика вовлечения писателей в Союз, как всегда, строилась на сочетании кнута и пряника. Но до съезда необходимо было чем-то писателей объединить, заставить мыслить и писать в нужном направлении. В преступном сообществе обычно повязывают кровью, но для писателей нашелся другой метод — их повязали на совместной лжи. Для этого в 1933 году была предпринята масштабная увеселительная поездка по только что открытому Беломоро-Балтийскому каналу, построенному руками заключенных. Писатели должны были написать совместный панегирик строителям канала и сотрудникам НКВД, его идеологам и, по совместительности, охранникам, авторам нового метода «перевоспитания» заключенных под названием «перековка».
Несколько десятков писателей приняли приглашение (попробовали бы не принять) руководства НКВД и целых шесть дней их возили по каналу, угощая развесистой клюквой. Вот строки из письма Александра Авдеенко: «Вечером колонна автобусов увозит нас на Ленинградский вокзал. К перрону подан специальный состав из мягких вагонов, сверкающих лаком, краской и зеркальными окнами. Рассаживаемся, где кто хочет. С той минуты, как мы стали гостями чекистов, для нас начался полный коммунизм. Едим и пьем по потребностям, ни за что не платим. Копченые колбасы. Сыры. Икра. Фрукты. Шоколад. Вина. Коньяк. И это в голодный год!»
При этом писатели умудрились не заметить рабский труд строителей канала. Хотя польза от этой поездки несомненно была. Она была хотя бы в том, что в одном из рабочих сытая группа мастеров пера узнала своего собрата — Сергея Алымова, автора известной песни «По долинам и по взгорьям…», их заступничество и ходатайство привело к мгновенному освобождению Алымова, он даже провел оставшуюся часть пути на писательском пароходе и вошел в число авторов книги.
В 1934 году вышла богато изданная, с великолепной суперобложкой, книга «Беломорско-Балтийский канал имени И.В. Сталина. История строительства». В коллективном труде был воспет героический труд и воля чекистов, решившихся на переделку человека и природы. Именно эту книгу дарили каждому делегату Первого Съезда советских писателей. Восемь писателей из числа будущих «чистопольцев» внесли свою лепту в создание этой книги: Борис Агапов, Жанна Гаузнер (она редактировала книгу), Семен Гехт, Корнелий Зелинский, Всеволод Иванов, Вера Инбер, Виктор Шкловский, Арон Эрлих.
Вот строки из письма Всеволода Иванова, тоже нашего «чистопольца», кому он пишет, догадайтесь сами:
«Милый Генрих Григорьевич, поспешно, на бегу поезда, чужой ручкой — Вл. Лидина, крепко-крепко благодарю Вас за великолепную мысль, позволившую нам увидать Б.-Б. канал. Страшно жаль, что не удалось мне увидать его раньше, весной, когда предлагали Вы. Целую Вас крепко».
Александр Безыменский, назвавший себя литературным чекистом, написал такой отклик на поездку.
Я сообщаю героической ЧК,
Что грандиозность Беломорского канала,
И мысль вождя, что жизнь ему давала,
Войдут невиданной поэмою в века.
Были ли те, кто отказался принять участие в коллективном панегирике? Да, были — Илья Ильф и Евгений Петров, например. Михаил Булгаков вообще отказался от увеселительной поездки — знал, к чему это приведет:
#нашчистополь #чистопольлитературный #экскурсиипочистополю
Еще один способ объединить творческие души — сплотить в ненависти. Врагов можно назначить, главное, уверенно объявить обществу, что все беды из-за них. Врагами в разное время были троцкисты-оппортунисты, шпионы и предатели, евреи и украинцы. Этот способ безотказно действовал вчера, действует и сегодня. В ненависти нам нет равных. И этот способ был блестяще применен в 1936 году. В начале августа 1936-го года закончился Первый московский процесс — «процесс шестнадцати» — первый показательный суд над группой бывших руководителей партии, «закоренелых троцкистов», в прошлом активных участников оппозиции. Над Каменевым и Зиновьевым, всего 16 человек.
Что же они замышляли? «…убить вождя человечества, чтобы открыть дорогу к власти диверсанту-террористу Троцкому, диверсантам-террористам, лжецам Зиновьеву, Каменеву и их подручным…Наш суд покажет всему миру, через какие смрадные щели просовывалось жало гестапо, этого услужливого покровителя троцкизма… Троцкизм сделался понятием, однозначным подлости и низкому предательству… Троцкисты стали истинными служителями чёрного фашизма…История справедлива. Она отдает социализму лучшие человеческие силы, создавая гениев и народных вождей. Фашизму история оставляет самые низкие отбросы, подобных которым не знал мир…Гнев народа поднялся великим шквалом… Страна наша полна презрения к подлецам… Старый мир собирает последние свои резервы, черпая их среди последних предателей и провокаторов мира… Мы обращаемся с требованием к суду во имя блага человечества применить к врагам народа высшую меру социальной защиты». Это строки из открытого коллективного письма, опубликованного газетой «Правда» 21 августа 1936 года. Заголовок обращения: «Стереть с лица земли». Оно было подписано шестнадцатью (то же самое магическое число) ведущими, или назначенными ведущими, на тот момент писателями страны. Вот их имена.
В.П. Ставский,
К.А. Федин,
П.А. Павленко,
В.В. Вишневский,
В.М. Киршон,
А.Н. Афиногенов,
Б.Л. Пастернак,
Л.Н. Сейфуллина,
И.Ф. Жига,
В.Я. Кирпотин,
В.Я. Зазубрин,
Н.Ф. Погодин,
В.М. Бахметьев,
А.А. Караваева,
Ф.А. Панфёров,
Л.М. Леонов.
Шестеро подписантов в скором времени окажутся в Чистополе. Справедливости ради, надо сказать, что подпись Пастернака оказалась в этом списке без его ведома. В воспоминаниях Зинаиды Николаевны можно прочесть, что Борис Леонидович, видев свою подпись под статьей, уже опубликованной в «Правде» (очень символическое название газеты), примчался к секретарю ССП Владимиру Ставскому с требованием опубликовать в той же газете опровержение, — он не давал полномочий подписывать за него это заявление, что, конечно же, не было, да и не могло быть, выполнено.
Следующая вспышка коллективной ненависти членов ССП не заставила себя долго ждать. В январе 37-го проходил показательный суд над группой бывших руководителей ВКП(б). Основными обвиняемыми были Г. Л. Пятаков, К. Б. Радек, Л. П. Серебряков, Г. Я. Сокольников. Все подсудимые были признаны виновными, 13 из них были приговорены к расстрелу и казнены через два дня, четверо были приговорены к различным срокам лишения свободы. (Их все равно убили, но чуть позже). 25 января 1937 года Президиум Союза Советских писателей выпустил Резолюцию под названием «Если враг не сдаётся — его уничтожают», которая от лица советских писателей требовала «поголовного расстрела» участников «параллельного центра». Резолюцию подписали:
Г. Лахути,
Вс. Вишневский,
В. Кирпотин,
Вс. Иванов,
Ф. Гладков,
А. Фадеев,
А. Афиногенов,
А. Безыменский,
Ю. Либединский,
А. Сурков, В. Ильенков,
Б. Иллеш,
А. Караваева,
А. Новиков-Прибой,
Б. Пильняк,
К. Тренёв,
М. Шагинян,
И. Сельвинский, и еще пять подписей.
Восемь «наших». Во вторник 27 января 1937 года в «Литературной газете» было опубликовано оглашённое только накануне, в понедельник, Обвинительное заключение по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра», приговора еще не было! И в этом же номере «ЛГ», еще до приговора!, – отклики любимых советских писателей. Они сочиняли статьи и даже стихи. Вот неполный список имён и названий:
Ал. Толстой (»Золотой ключик») – «Сорванный план мировой войны».
Н. Тихонов (»Гвозди б делать из этих людей, Крепче б не было в мире гвоздей.») – «Ослеплённые злобой».
К. Федин («Города и годы»)– «Агенты международной контрреволюции».
Ю. Олеша (»Три толстяка») – «Фашисты перед судом народа».
Д. Алтаузен («Первое поколение») – «Пощады нет».
А. Новиков-Прибой (»Цусима») – «Презрение наёмникам фашизма».
Вс. Вишневский (»Оптимистическая трагедия»)– «К стенке!».
И. Бабель (»Конармия») – «Ложь, предательство, смердяковщина».
Л. Леонов (»Русский лес», «Нашествие») – «Террарий».
М. Шагинян (» Своя судьба») – «Чудовищные ублюдки».
С. Сергеев-Ценский (»Преображение России») – «Эти люди не имеют права на жизнь».
Вл. Луговской – «Горе фашистам и их приказчикам».
А. Платонов(«Чевенгур», «Котлован») – «Преодоление злодейства».
В. Шкловский – «Эпилог».
Б. Лавренёв (»Сорок первый») – «Их судит вся страна».
Евг. Долматовский – «Мастера смерти».
Р. Фраерман (»Дикая собака Динго, или повесть о первой любви») – «Мы вытащим их из щелей на свет».
А. Фадеев (»Последний из удэге») – «Мы непобедимы!»
Вс. Иванов (»Бронепоезд 14-69») – «Библия позора».
А. Безыменский – «Дегазировать троцкистскую идеологию».
В. Инбер (»Пулковский меридиан») – «Литература – могучее орудие обороны страны».
Демьян Бедный – «Будем бить».
Ю. Тынянов («Смерть Вазир-Мухтара») – «Приговор суда – приговор страны».
К. Тренёв – «Маски сорваны» (»Любовь Яровая»).
М. Исаковский – «Приговор народа».
Л. Соболев (»Капитальный ремонт») – «Кто не с нами, тот против нас».
Перец Маркиш (»Из века в век») – «Исчадия лжи и злобы».
В. Бредель («Братья Витальеры») – «Подручные германских и японских фашистов».
Вот, к примеру, строчки из стихотворения Михаила Исаковского, будущего нашего «чистопольца», которому сегодня собираются поставить памятник.
За нашу кровь, за мерзость черных дел
Свое взяла и эта вражья свора:
Народ сказал: «Предателям — расстрел!»
И нет для них иного приговора.
Евгений Долматовский, тоже наш, «чистопольский».
Подлые шпионы и бандиты
Радеками тёрлись возле нас,
Может быть, ещё не все добиты –
Крепче руки и острее глаз!
Перец Маркиш, это в его комнате жил Пастернак, когда осенью 41-го Маркиш уехал сначала в Ташкент, а затем в Москву.
Их судит трибунал с презрением во взоре,
И весь народ гремит из края в край:
Ни капли милости взбешённой волчьей своре –
Пусть сгинут! Никому пощады не давай!
(Маркиша, правда, в 1952 году сам был расстрелян по делу Еврейского антифашистского комитета).
Имени Пастернака нет среди публично озвучивших свою позицию писателей. Казалось бы… Но сохранилась его записка, написанная им в январе 1937-го в секретариат ССП: «Прошу присоединить мою подпись к подписям товарищей… Я отсутствовал по болезни, к словам же резолюции нечего добавить. Родина — старинное, детское, вечное слово, и родина в новом значении, родина новой мысли, новое слово, поднимаются в душе и в ней сливаются, как сольются они в истории, и все становится ясно, и ни о чем не хочется распространяться, но тем горячее и трудолюбивее работать над выражением правды, открытой и ненапыщенной, и как раз в этом качестве недоступной подделке маскирующейся братоубийственной лжи». Многословен и велеречив, как всегда. Но, суть ясна.
Очередной подъем патриотизма советских писателей был необходим для правильного освещения де́ла Тухаче́вского, или дела «антисоветской троцкистской военной организации» — дела по обвинению группы высших советских военачальников (одиннадцать человек) во главе с маршалом Советского Союза Михаилом Тухачевским в организации военного заговора с целью захвата власти. Закрытое заседание Специального судебного присутствия Верховного Суда СССР по делу состоялось 11 июня 1937 года. Все подсудимые были признаны виновными и расстреляны немедленно по вынесении приговора (Ян Гамарник застрелился накануне ареста). Пятнадцатого июня в «Литературной газете», являвшейся органом Правления ССП СССР на первой странице появилась статья под названием « Не дадим житья врагам Советского Союза». Подписей было так много, что пришлось в конце поставить стыдливую надпись «и др…». А впереди были те самые — «известные всему миру, маститые и талантливые». Выберу только наших, «чистопольцев».
Вс. Иванов,
А. Фадеев,
К. Федин,
П. Павленко.
К. Тренев,
А. Сурков,
Л. Леонов,
В. Кирпотин,
И. Сельвинский.
Б. Пастернак,
В. Билль-Белоцерковский.
И др…
За «и др…» наверняка прятались фамилии еще многих и многих. В различных публикациях часто говорится, что подписи Пастернака под статьей не было. Специально нашел статью и сделал скрин. Есть. И опять же, скажу по поводу подписи Бориса Леонидовича. Зинаида Николаевна Пастернак, в своих воспоминаниях писала, что когда 11 сентября 37-го года к ним на дачу в Переделкино приехал порученец от Ставского с задачей собрать подписи под статьей, Борис Леонидович в гневе выпалил: «Чтобы подписать, надо этих лиц знать, и знать, что они сделали. Мне же о них ничего не известно, я им жизни не давал и не имею права ее отнимать…Товарищ, это не контрамарки в театр подписывать, и я ни за что не подпишу!». Считается, что Ставский опять сам подписал за Пастернака статью. Уже не сильно верю. И, «что написано пером», как говориться, не вырубишь???
Интересно, а были ли такие, которые не требовали немедленного распятия провинившихся? Да, были. Немного, прямо скажем, единицы. Среди них Анна Андреевна Ахматова (на восемь дней тоже «наша»). В те годы она была и беспартийной, и не состояла в ССП. Убереглась от позора. Она вступила в ССП лишь в 1939 году, когда готовился к печати сборник ее стихов «Из шести книг». Еще можно вспомнить Викентия Вересаева русского писателя, известного пушкиниста, врача, переводчика, литературоведа, лауреата Пушкинской премии 1919 года. Ничего никогда не подписывал. Еще фамилии Осипа Мандельштама, Михаила Булгакова не были замечены среди фамилий подписантов. Значит, можно было?
Но это я опять забежал вперед, а пока… Вернемся же к Первому Съезду Советских Писателей, к съезду, который сплотил, объединил и повел за собой такую разноталантливую когорту мастеров пера и пишущей машинки. Повел к сияющим горизонтам маячившего где-то вдалеке социализма:
#нашчистополь #чистопольлитературный #экскурсиипочистополю
Вернемся же к Первому Съезду Советских Писателей, к съезду, который сплотил, объединил и повел за собой такую разноталантливую когорту мастеров пера и пишущей машинки. Повел к сияющим горизонтам маячившего где-то вдалеке социализма.
Координацию работы съезда поручили Андрею Жданову. Секретно-политический отдел ГУГБ НКВД СССР начал собирать информацию о настроениях в литературном сообществе и готовить характеристики будущих делегатов.
Теперь все было готово к открытию Первого Всероссийского съезда писателей. И он открылся, открылся 17 августа 1934 года. Атмосфера напоминала большой праздник: играли оркестры, у входа в Колонный зал делегатов приветствовали толпы москвичей, на стенах Дома союзов были развешаны портреты Шекспира, Мольера, Толстого, Сервантеса, Гейне. Предприятия столицы — «Трёхгорка», метростроевцы, железнодорожники — направляли на съезд своих представителей с напутствиями и пожеланиями. Колхозники рекомендовали Михаилу Шолохову, чтобы в продолжении «Поднятой целины» Лукерья стала «ударницей коммунистического производства». Пионеры входили в зал с наставлениями: «Есть много книг с отметкой „хорошо“, Но книг отличных требует читатель». В президиуме, под огромным портретом Повелителя душ Максим Горький, Борис Пастернак, Алексей Толстой и прочие мэтры пера.
Съезд наметил разделение литераторов по ранжиру. Главным писателем страны стал Горький, ведущим детским поэтом — Маршак, на роль основного поэта выступивший Николай Бухарин выдвинул Бориса Пастернака. По словам представителя ленинградской делегации Вениамина Каверина, поводом к появлению негласной табели о рангах послужила фраза Горького о том, что нужно «наметить 5 гениальных и 45 очень талантливых» писателей; остальных литераторов докладчик предлагал включить в число тех, кто «плохо организует свой материал и небрежно обрабатывает его». Тему неравнозначности писателей поддержал и Николай Бухарин, тогда любимец партии, член Политбюро ВКП(б), (еще 34-й год, у Бухарина все впереди), в своем докладе он вполне определенно сказал, что «Пастернак — поэт талантливый, а партийные товарищи — Демьян Бедный, Александр Безыменский, Алексей Сурков — увы, нет». Такое откровенное ранжирование писателей вызвало настоящий взрыв зависти, прикрытой, конечно, высокой идеологией. И первым, кто взялся низвергать Пастернака с пьедестала был Алексей Сурков (наш, «чистопольский»). Он утверждал, что не существует такого понятия, как «абстрактное мастерство», что хорошая поэзия должна иметь большевистский оттенок и что творчество Пастернака «не является подходящей точкой отсчёта для нашего роста»
В принятом на съезде уставе Союза писателей СССР социалистический реализм был признан основным методом советской литературы и советской критики, «требующим от художника правдивого, исторически-конкретного изображения действительности в её революционном развитии».
Как водится, на такое благое дело было потрачено немало средств. Питание одного делегата в ресторане в Большом Филипповском переулке обходилось организаторам в 40 рублей в день, тогда как в то время средняя стоимость обеда рабочего составляла 84 копейки, служащего в учреждении — 1 рубль 75 копеек, а хороший обед в коммерческом ресторане стоил 5 рублей 84 копейки. В распоряжение оргкомитета съезда было выделено 25 легковых машин, 6 автобусов, всем делегатам предоставили право бесплатный проезд на общественном транспорте в Москве. Для участников съезда организовали централизованное обеспечение дефицитными товарами в специализированном магазине № 118, куда специально завезли «готовое платье, обувь, трикотаж, хлопчатобумажные и шёлковые ткани, резиновые изделия???, 400 патефонов, 8 тысяч грампластинок, 50 велосипедов, 200 карманных часов». Съезд организаторы решили завершить банкетом, который был накрыт на 800 человек из расчёта 125 рублей на каждого. Итоговые затраты превысили 1,2 миллиона рублей,
Это, вероятно, в активе, а что в пассиве? Что думали сами участники, о чем говорилось в кулуарах съезда? Сотрудники секретно-политического отдела ГУГБ НКВД СССР зафиксировали в своих донесениях реплики Бабеля о том, что «съезд проходит мёртво, как царский парад», поэта Михаила Семенко, сказавшего, что из-за гладкой атмосферы ему «хочется бросить в президиум кусок дохлой рыбы», Михаил Пришвин отмечал скуку невыносимую, Исаак Бабель назвал съезд «литературной панихидой». В отличии от бодрых и жизнеутверждающих докладов с трибуны съезда, разговоры за кулисами были совсем иные, видимо участники уже догадывались в какое стойло их ведут. Юрий Олеша в приватном разговоре с Ильей Эренбургом, сказал, « что теперь вообще не сможет писать». Корней Чуковский впоследствии вспоминал о том, какую тоску в нём вызвал «этот съезд». Леонид Леонов: «Ничего нового съезд не дал». Александр Щербаков, назначенный съездом руководителем Союза Советских писателей писал в дневнике: «На съезде был полчаса. Ушел. Тошно».
Во время работы съезда случился инцидент, долгое время не разглашавшийся — была обнаружена листовка. Она была написанная карандашом печатными буквами под копирку. В листовке группа советских писателей, признаваясь в своей малочисленности, обращалась к иностранным делегатам съезда с призывом не верить тому, что говорится на съезде: «Мы даже дома часто избегаем говорить, как думаем, ибо в ССР существует круговая система доноса».
Вскоре после помпезного мероприятия в регионы начали поступать директивы о подготовке к выходу социально значимых произведений. По линии секции драматургов были направлены рекомендации более чем пятидесяти литераторам «о создании драматургических произведений, достойных великой даты 20-летия Октября». Само вспомните эти пьесы? Заказанный «товар» вскоре отблагодарят Сталинскими премиями.
Что же это был за товар? По инициативе Горького в 32-35 годах были созданы «История фабрик и заводов», «История двух пятилеток», «История московского метро», в написании которых принимали участие Виктор Шкловский (наш), Вера Инбер (почти наша), Борис Пильняк, Исаак Бабель, Александр Безыменский , Евгений Долматовский (наш), Алексей Толстой, Михаил Зощенко, Ольга Берггольц, Юрий Либединский и многие, многие другие.
Интересный вопрос: «А сколько вообще было писателей в СССР к Первому съезду?». Как ни странно, на него нет точного ответа, я, по крайней мере, не нашел. Считается, что в комиссию по приему писателей в Союз было подано около 2500 тысяч заявлений о приеме в Союз. Председатель Комиссии П. Юдин писал: «Заявления о приеме в Союз написали буквально все писатели. Не осталось ни одного писателя, за исключением Анны Ахматовой». Нельзя сказать, что Писатели дружно рвались в Союз только ради пайков, нет — это сразу стало престижно. «С кем вы, мастера культуры?» — с Властью, естественно. И, тем не менее, многие шли для того, чтобы получить различные льготы и привилегии, и тому есть многочисленные подтверждения в виде заявлений в Правление ССП.
Чем располагал, казалось бы, творческий Союз? О, это была целая империя несказанных удобств для посвященных. В ведении правления СП СССР находилось издательство «Советский писатель», Литературный институт имени А. М. Горького, Всесоюзное управление по охране авторских прав, Всесоюзное Бюро пропаганды художественной литературы, Центральный дом литераторов в Москве. Печатными органами СП СССР были «Литературная газета», журналы «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Вопросы литературы», «Литературное обозрение», «Иностранная литература», «Юность», «Советская литература» (выходила на иностранных языках), «Театр», «Советиш геймланд» (на идиш), «Звезда», «Костёр». При правлении СП СССР действовал Литературный фонд СССР, региональные писательские организации также имели свои Литфонды. В задачу Литфондов входило оказание членам ССП материальной поддержки (соответственно «рангу» писателя, конечно) в форме обеспечения жильём, строительства и обслуживания «писательских» дачных посёлков, медицинского и санаторно-курортного обслуживания, предоставления путёвок в «Дома творчества писателей», оказания бытовых услуг, вплоть до пошива одежды, снабжения дефицитными товарами и продуктами питания. В годы расцвета Союз писателей СССР имел в своей собственности 22 Дома творчества. И где! Переделкино, Царское село, Комарово, Малеевка, Ялта, Коктебель, Голицино, Дубулты, Гагра, Пицунда, Ирпень, Одесса, Королищевичи, Долгая поляна.
Еще одним вариантом пряника были творческие командировки. Все писатели обязаны были изучать жизнь своей страны, общаться с гражданами страны, видеть перемены в жизни общества, гигантские стройки, бдительные пограничные заставы, безупречных, всегда стоящих на страже военных и бесконечно любящих свой народ руководителей. Но выезжать в особые, щедрые командировки, могли только избранные. Конечно, Пастернак, после самоубийства Маяковского — первый поэт страны, но, все же, все же…
Вот выдержки из книги Зинаиды Николаевны Пастернак «Воспоминания. Письма». «В 1933 году его (Бориса Пастернака) пригласили на Урал посмотреть заводы и колхозы, познакомиться с жизнью в тех местах и написать что-нибудь об Урале. Поездка предвиделась на три-четыре месяца. Борис Леонидович поставил условием, что возьмет с собой жену и ее детей. Мы пригласили в поездку двоюродную сестру Генриха Густавовича (Нейгауза)… Она очень любила детей и прекрасно с ними ладила. Первое время мы жили в гостинице «Урал» в Свердловске. Столовались мы в обкомовской столовой… Потом нас переселили на озеро Шарташ под Свердловском и дали нам домик из четырех комнат. Время было голодное, и нас снова прикрепили к обкомовской столовой, где прекрасно кормили и подавали горячие пирожные и черную икру. В тот же день к нашему окну стали подходить крестьяне, прося милостыню и кусочек хлеба. Мы стали уносить из столовой в карманах хлеб для бедствующих крестьян… Мы с трудом выдержали там полтора месяца. Борис Леонидович весь кипел, не мог переносить, что кругом так голодают, перестал есть лакомые блюда, отказался куда-либо ездить и всем отвечал, что он достаточно насмотрелся. Как я ни старалась его убедить, что он этим не поможет, он страшно возмущался тем, что его пригласили смотреть на этот голод и бедствия затем, чтобы писать какую-то неправду, правду же писать было нельзя…Отговорившись болезнью Бориса Леонидовича, мы попросили взять нам билеты в Москву. Предлагали подождать еще неделю мягкого вагона. Борис Леонидович был непреклонен и говорил, что поедет в жестком. На вокзал нам принесли громадную корзину со съестным. Он не хотел брать, но я настояла, так как на станциях ничего нельзя было купить, а ехать предстояло четыре дня. Всю дорогу до Москвы мы ехали полуголодными; Борис Леонидович запретил открывать корзину и обещал раздать все соседям по вагону, если я нарушу запрет, приходилось кормить детей в туалете».
Еще одна поездка делегации ССП в Грузию в ноябре 1933 года. Пастернак, Тихонов, Кирпотин и другие члены Правления ССП. Из писем Бориса Леонидовича Зинаиде Николаевне. «Ехали в специальном «культурном» вагоне, которым заведовал поездной массовик-затейник, недурно игравший на пианино, певший, читавший стихи и только что не разыгрывавший шарад. В вагоне можно было даже устроить киносеанс». В дороге Пастернак простыл, но вечером 16 ноября, по прибытии в Тифлис, его отпоили вином — пышный ужин закончился в пять утра. Далее поездки по древней Грузии, и опять застолье, без которого Грузия немыслима: «Вчера на обеде в Кутаиси нами выпито было 116 литров!!!».
О жилищных условиях мастеров пера. Сначала писателям (не всем, конечно, принцип отбора был суров и непредсказуем — в Москве бушевал жилищный кризис, который по словам известного персонажа Булгакова, «их испортил»), писателям предоставляли комнаты в знаменитом Доме Герцена («Грибоедове») на Тверском бульваре. Начинающие пролетарские литераторы могда надеяться на в общежитие на Покровке. Затем члены творческого союза начали получать квартиры в доме на улице Фурманова. Один кооперативный дом вскоре был построен в Камергерском переулке, второй чуть позже – в Нащокинском.
«…надо создать писательский городок. Гостиницу, чтоб в ней жили писатели, столовую, библиотеку большую — все учреждения. Мы дадим на это средства». И.В. Сталин. И в 35-м году началось строительство «Писательского дома» в Лаврушинском переулке. В первой очереди писательского дома было 19 двухкомнатных, 38 трехкомнатных, 15 четырехкомнатных, пять пятикомнатных квартир (Федин, Сельвинский, Погодин. Эренбург, Вишневский) и одна шестикомнатная. ее получил Всеволод Иванов. Получить квартиру можно было, внеся за нее пай, (как это тогда называлось), от 8000 до 20000 рублей. Не у всех писателей, претендующих на квартиры были соответствующие средства. Приходилось брать ссуды в Литфонде. Борис Пастернак наскреб денег лишь на двухкомнатную квартиру, причем двухуровневую, располагавшуюся на двух этажах. Пришлось убрать внутреннюю лестницу, выкроить себе кабинет, но ходить на верхний этаж через общий коридор. Впрочем, взятые ссуды писателям вскоре «простили». Квартир было 96, а заявлений — около 1500, так что даже не всем, внесшим пай, досталось престижное жилье. Михаил Булгаков, например, оплативший четырехкомнатную квартиру в Лаврушинском, получил лишь кооператив на улице Фурманова, а переплату ему вернули только через пять лет. Не потому ли его Маргарита разгромила квартиру критика Латунского — его прототип, критик Осаф Литовский, в Дом писателей как раз-таки попал. Кстати, о ссудах. В августе 1937-го Правление Литфонда приняло новое постановление о порядке оказания материальной помощи членам организации. Утверждались следующие ее виды: специальные пособия начинающим авторам, возвратные пособия, безвозвратные пособия и пособия при прохождении воинской службы. Размеры пособий определялись персонально. Также была установлена выдача пособий в случае нетрудоспособности всем членам Литфонда от 200 до 1000 рублей в месяц. Для справки: средняя зарплата по Москве в том же 1937 году составляла 271 рубль.
В 35-м же в Подмосковье началось строительство писательских дач — знаменитое Переделкино. В 36-м роскошные, огромные дачи получили Константин Федин, Александр Малышкин, Борис Пильняк, Леонид Леонов, Всеволод Иванов, Борис Пастернак, Александр Афиногенов. Дачи были государственными, и по смерти, чаще, по посадке, или по расстрелу текущего жильца, передавались следующему.
Но, все-таки, главным источником средств у писателей были гонорары. Какие стали тиражи! 50 000 экземпляров, 100 000 экземпляров! Переиздания! Всесоюзное управление по охране авторских прав писателей было создано одновременно с ССП в 1934 году. В его задачу входил учет издания переиздания и исполнения произведений по всей стране. Учитывались исполнения в театрах, кинотеатрах, клубах, эстрадных площадках, на радио и, даже, в ресторанах. Особенно повезло автору текста гимна СССР — Сергею Михалкову. Гимн страны исполнялся на радио ежедневно в 6 утра и в полночь. Если в 1973 году, в общаге, где я жил, кто-то вечером забывал прикрутить громкость радиоточки, в 6 утра со стены раздавались торжественные звуки гимна, а на счет Сергея Владимировича звякала «копеечка». Впрочем, его внук, Егор Кончаловский, рассказывал, что у деда вообще был «открытый» счет. Алексей Толстой, будучи руководителем ВУОАПа, как-то выписал себе аванс под задуманный роман в 83000 рублей, объяснив эту немыслимую сумму тем, что расходов у него много, а театральный сезон уже закончился. Борис Пильняк, входивший в 1936 году в 30-ку самых оплачиваемых писателей, объехал буквально весь мир, пребывая за рубежом по нескольку месяцев, имел личный автомобиль, дачу в Переделкино, и признавался: «Я зарабатываю моими книгами 3200 рублей в месяц». (21 апреля 1938 года осуждён Военной коллегией Верховного Суда СССР по обвинению в государственном преступлении — шпионаже в пользу Японии, приговорён к смертной казни за измену родине и расстрелян в тот же день в Москве):
#нашчистополь#чистопольлитературный#экскурсиипочистополю
Еще одним способам поощрения и выделения самых-самых, было присуждение Сталинских премий в различных областях искусства. 20 декабря 1939 года в ознаменования 60-тилетия И.В. Сталина была учреждена премия и стипендия имени товарища Сталина. 16 первых премий (в разных областях) по 100000 рублей, двадцать вторых по 50000 и 30 третьих по 25000. Премия давалась не по совокупности заслуг, а за конкретные работы и достижения. В качестве награды к премии обычно прилагался орден. Среди писателей шестикратным лауреатом Сталинской премии был Константин Симонов. Лауреаты самой первой Сталинской премии были объявлены в 1941 году. Так в номинации «Художественная проза» лауреатами первой степени стали Алексей Толстой за роман «Петр I», Сергей Сергеев-Ценский за роман «Севастопольская страда» и Михаил Шолохов за роман «Тихий дон». В номинации «Поэзия» дипломы первой степени получили Николай Асеев за поэму «Маяковский начинается». Иллюстрации и обложку к этой книге выполнила Мария Синякова-Уречина, тоже «наша, чистопольская». Первую степень также получили Янка Купала и Павел Тычина. В области драматургии первую степень получили Константин Федин за пьесу «Любовь Яровая», Александр Корнейчук за пьесы «Платон Кречет» и «Богдан Хмельницкий» и Николай Погодин за пьесу «Человек с ружьем».
Свершилось — отныне писатели «производили товар», очень нужный товар, не заметив, что стали личными литературными холопами Самого. Хочу казню, хочу милую. Хочу позвоню, хочу брошу трубку.
Были те кто не хотел, не мог встать в общий ряд? Конечно были. Они предпочли покинуть страну, в которой родились, предпочли смерть на чужбине, простите за пафос. И это были не самые слабые писатели и поэты. Сегодня, когда эмигрантская литература стала доступна, мы можем оценить силу их таланта. Вот только самые, самые. Константин Бальмонт, Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Аркадий Аверченко, Владимир Набоков, Иван Бунин (лауреат Нобелевской премии 1933 года), Марина Цветаева (она все же вернулась в 1939-м, но лишь для того, чтобы найти через два года свой гвоздь на потолочной балке в сенях елабужского дома), Владислав Ходасевич, Иван Шмелев, Георгий Иванов, Нина Берберова, Борис Зайцев. И это только первая волна эмиграции. За ней последовала вторая, а затем и третья. Третья — это те, которые писали уже совсем не то, что требовалось стране, в которой победил социализм. Третья — это, преимущественно те, кого лишили гражданства и выслали из страны. Третья — это те, кто смог вернуться после распада СССР, не все, конечно. Третья — это Василий Аксенов, Эдуард Лимонов, Александр Солженицын, Иосиф Бродский (лауреат Нобелевской премии по литературе, 1987 год), Александр Галич, Сергей Довлатов, Георгий Владимов, Владимир Войнович, Юрий Мамлеев, Андрей Синявский.
А те, кто остались, попробовали бы они не производить нужный товар! На это и был кнут! Вероятно, первым его почувствовал на себе Николай Гумилев, «пришитый» к «Таганскому делу» и расстрелянный 26 августа 1921 года. За ним пошли Артем Весёлый, Михаил Кольцов, Николай Бурлюк, Исаак Бабель, Сергей Эфрон, Вероника Черняховская, Александр Чаянов, Николай Бруни, Павел Флоренский, Тициан Табидзе, Николай Клюев, Владимир Нарбут, Сергей Колбасьев, Даниил Хармс, Борис Пильняк, Бенедикт Лифшиц, Осип Мандельштам, и многие, многие, многие… В списке писателей и поэтов, расстрелянных по приговорам внесудебных и судебных органов, опубликованном на сайте «бессмертный барак» — 464 имени. И еще 254 имени арестованных, сосланных, или покончивших с собой. bessmertnybarak.ru/article/re…
Бабель Исаак Эммануилович
. Дата рождения: 30 июня 1894 г.
. Варианты ФИО: Исаак Эммануилович Бобель (первоначальная фамилия)
. Место рождения: г. Одесса, Российская империя
. Пол: мужчина
. Возраст: 45
. Национальность: еврей
. Гражданство (подданство): Российская империя; СССР
. Социальное происхождение: из семьи торговца
. Образование: Киевский коммерческий институт, высшее
. Профессия / место работы: писатель,журналист, драматург; член Союза советских писателей.
. Место проживания: г. Москва, Большой Николоворобьинский пер., д. 4, кв. 3 (г. Москва, Яузский бульвар, д. 3, строение 1)
. Партийность: беспартийный
. Дата расстрела: 27 января 1940 г.
. Место смерти: Москва
. Место захоронения: г. Москва, Донское кладбище (Общая могила № 1)
. Где и кем арестован: дачный поселок Переделкино; НКВД
. Мера пресечения: арест
. Дата ареста: 16 мая 1939 г.
. Обвинение: «антисоветская заговорщическая террористическая деятельность»; шпионаж (дело № 419)
. Осуждение: 27 января 1940 г.
. Осудивший орган: ВКВС СССР
. Статья: 58-1а-7-8-11
. Приговор: ВМН (расстрел)
. Дата реабилитации: 18 декабря 1954 г.
. Реабилитирующий орган: ВКВС СССР
Из выступления Всеволода Вишневского на обсуждении творческого отчета Бориса Пильняка в Союзе Советских писателей 28 октября 1936 года. «Давайте доводить дело до конца. Либо мы их уничтожим, либо они нас. Вопросы стоят о физическом уничтожении. Такой тип писателя на нашей почве должен погибнуть… У нас должен быть другой тип писателя, выполняющий дисциплинарную новую функцию искусства…Будет момент, когда вас, прижав к стенке с наганом в руке, могут спросить: «С кем вы?»
Из «справки на арест» Бориса Пильняка 1937 год.
«Тесная связь Пильняка с троцкистами получила отражение в его творчестве. Целый ряд его произведений был пронизан духом контрреволюционного троцкизма (»Повесть непогашенной луны», «Красное дерево»)…В 1933 году Пильняк стремился втянуть в свою группу Б. Пастернака. Это сближение с Пастернаком нашло свое внешнее выражение в антипартийном некрологе по поводу смерти Андрея Белого, а также в письме в «Литгазету» в защиту троцкиста Зарудина, подписанном Пастернаком и Пильняком…В 1936 г. Пильняк и Пастернак имели несколько законспирированных встреч с приезжавшим в СССР Андре Жидом, во время которых тенденциозно информировали Жида о положении в СССР… Необходим арест и обыск».
В течение нескольких лет после окончания Первого Всероссийского съезда советских писателей 220 его участников подверглись репрессиям. Треть участников съезда (182 человека) погибла в течение нескольких следующих лет в тюрьмах и ГУЛАГе. Ещё 38 человек были репрессированы, но остались живы. Страна, а вместе с ней и Союз Советских писателей превратились в театр абсурда. Драматург Александр Гладков (его брат Лев был арестован в 37-м), потрясенный террором, в дневнике за 1937-й писал о неразрывном слиянии в стране талантливого, здорового, сильного и страшного, трагического, бессмысленного: «Советские люди дрейфуют на льдине у Северного полюса, огибают на крылатых кораблях половину земного шара, советских людей в зашторенных кабинетах на Лубянке избивают и мучают… А в городах в ресторанах гремят джазы, на сценах театров страдает Анна Каренина, типографии печатают в миллионах экземпляров стихи Пушкина и Маяковского и десятки миллионов людей голосуют за невысокого, коренастого человека с лицом, тронутым оспинами, и желтоватыми глазами, человека с солдатскими усами и рыбачкой-трубкой, именем которого совершались все подвиги и подлости в этом году».
Фактически, в годы Большого террора произошла существенная селекция работников пера. Были отфильтрованы, выброшены из страны (это в лучшем случае), либо физически устранены те, кто не желал поставить свой талант на службу обществу, в котором победила «диктатура пролетариата». Их книги были изъяты из библиотек, их произведения вылетели из школьных программ, их имена были запрещены к упоминанию.
Если вы считаете, что такой жесточайший прессинг со стороны властей, причем — прессинг, это еще самое мягкое слово, которое можно употребить, не дисциплинировал, не ограничивал в творчестве, не заставлял прибегать к постоянной самоцензуре, не приводил к эзопову языку или к поискам нейтральных тем, делая из поэта, писателя, драматурга послушную дрессированную собачку, то вы ошибаетесь. И те из них, кто мог бы, хотел бы писать, прекрасно сознавали это.
Мне думается, не прикрашивай
Мы самых безобидных мыслей,
Писали б, с позволенья вашего,
И мы, как Хемингуэй и Пристли.
Это строки из незаконченной поэмы Пастернака «Зарево», начатой в нашем Чистополе. Поэма не могла быть напечатана по цензурным соображением и осталась недописанной.
Все ли писатели осознавали свое подневольное, подцензурное существование? Все ли помнили главную заповедь Главлита? «Цензура является для нас оружием противодействия растлевающему влиянию буржуазной идеологии» . Да, конечно, все. Либо ты пишешь в русле обозначенного съездом соцреализма, и получаешь соразмерное написанному вознаграждение, либо молчишь и перебиваешься с воды на хлеб. Но только осмеливались говорить о этих шорах, этих установленных рамках, лишь те, кто чувствовал в себе способность вырваться за флажки.
Анна Ахматова, можно сказать, благодаря случаю каким-то чудом была включена в план издания на 1940 год. Рассказывают, что главный читатель страны с подачи своей дочери Светланы спросил на очередном заседании своего Политбюро: «Почему не печатают Ахматову?». И сборник ее стихов «Из шести книг» в страшной спешке был подготовлен и набран в издательстве «Ленинградский писатель». Мало того, его включили в список номинантов на Сталинскую премию за 1940-й год. В конце мая 1940 года сборник уже поступил в ленинградскую Книжную лавку писателей. В августе вышел весь тираж. Но к этому времени власти опомнились. В конце сентября на имя секретаря ЦК Жданова поступила докладная записка от управляющего делами ЦК ВКП (б) Крупина «О сборнике стихов Анны Ахматовой»: «Стихотворений с революционной и советской тематикой, о людях социализма в сборнике нет. Два источника рождают стихотворный сор Ахматовой, и им посвящена ее «поэзия»: Бог и «свободная» любовь, а «художественные» образы для этого заимствуются из церковной литературы. Необходимо изъять из распространения стихотворения Ахматовой». Резолюция Жданова: «Как этот Ахматовский блуд во славу божию» мог появиться в свет? Выясните и внесите предложения». Сборник «Из шести книг» был снят с полок магазинов и изъят из успевших получить его библиотек.
Наградили меня немотою,
На весь мир окаянно кляня,
Окормили меня клеветою,
Опоили отравой меня.
И, до самого края доведши,
Почему-то оставили там.
Любо мне, городской сумасшедшей,
По предсмертным бродить площадям.
Анна Ахматова
Понимали свое лакейское существование, конечно, не только Борис Пастернак и Анна Ахматова. В чем русский человек топит свое горе?, — правильно в вине. Сознание невозможности писать сущное, прямо выразить свое отношение к происходящему в стране произволу, необходимость ежедневно, ежеминутно соответствовать высокому званию советского писателя, которое возложила на тебя партия, приводили к повальному пьянству. Причем не только писателей мужчин, но и женщин. В упоминавшейся уже книге Антипиной о жизни писателей в 30-е — 50-е годы можно найти фамилии и Фадеева, и Лидии Сейфуллиной («Виринея»), и Сергея Алымова (»По долинам и по взгорьям»), и Якова Шведова, автора «Орленка», и Бориса Корнилова (»Нас утро встречает прохладой»), мужа Ольги Берггольц. Сама Ольга Берггольц попадала даже в больницу, в которой ее пытались лечить от пагубного пристрастия, она описала методы лечения с жуткими подробностями в своем дневнике. Николай Погодин (»Человек с ружьем»), поэты Павел Васильев (один из тех поэтов, который пытался в своих стихах рассказать о страшных трагедиях, творимых во время раскулачивания, о расстреле царской семьи), Ярослав Смеляков (»Хорошая девочка Лида»), Владимир Луговской (»Вставайте люди русские») — многие и многие были подвержены влиянию зеленого змия. Высоких литературных чиновников, таких как Фадеев, разбирали даже на ЦК ВКП(б), с остальными работало правление ССП. Меры воздействия — вплоть до исключения из ССП.
Но пьянство было еще не самым страшной реакцией на вмешательство чиновников в творчество. Всем памятно самоубийство Владимира Маяковского. Творческий кризис, проблемы в личной жизни и изменившееся отношение власть имущих привели 14 апреля 1930 года к роковому выстрелу. Борис Пастернак в середине 30-х, уже после съезда, провозгласившего его первым российским поэтом, находился в жесточайшей депрессии. В письме к Тициану Табидзе от 10 марта 1935 года он писал о «серой, обессиливающей пустоте, о приступах внезапной тоски, о бессоннице и неспособности работать». И это прямое воздействие понимания эпохи, в которой люди кругом не просто изничтожаются морально, но ежесекундно рискуют быть уничтоженными физически. Но, когда в Париже на начавшемся Антифашистском конгрессе писателей, на котором когорта советских писателей была не слишком представительна, пошел слушок, что видных, лучших писателей не выпускают из страны, ( Горького, действительно, не выпустили), было решено усилить советскую делегацию писателями мировой величины. В Париж решили срочно послать Исаака Бабеля и Бориса Пастернака, причем Пастернака, в прямом смысле мобилизовывал Поскребышев, секретарь Самого. Как не отнекивался Борис Леонидович нездоровьем и отсутствием подходящей европейской одежды, его, полуживого от бессонницы, запихнули в поезд, вручили пошитый специально для конгресса в литфондовском ателье костюм и отправили в Париж. Вот вам и ответ на вопрос, каким образом Пастернак уцелел (а уцелел ли?) во времена жесточайших гонений на творческих работников — он нужен был живым, в виде манекена.
Нет, прав, прав был Осип Мандельштам: «Писательство — это раса с противным запахом кожи и самыми грязными способами приготовления пищи. Это раса, кочующая и ночующая на своей блевотине, изгнанная из городов, преследуемая в деревнях, но везде и всюду близкая к власти, которая ей отводит место в желтых кварталах, как проституткам. Ибо литература везде и всюду выполняет одно назначение: помогает начальникам держать в повиновении солдат и помогает судьям ценить расправу над обреченными». Можно ли было оставить автора этих слов в живых — вопрос риторический:
Пару дней назад Михаил Любимов Михаил Любимов опубликовал пост vk.com/lubimovtv?w=wall5165…, в котором в очередной раз напомнил, провозгласил, прокричал, довел до сведения горожан: «У нас есть «право на город!», — право создавать, преобразовывать и использовать городское пространство так, как нам хочется». Нам, горожанам. Но для того, чтобы этим правом пользоваться, надо, прежде всего, любить свой город. Любить до такой степени, чтобы не быть равнодушным к уродующей его крикливой разноцветной рекламе, яркой кислотной расцветке исторических домов, разрушающегося, теряющего свой купеческий колорит исторического центра города, разрушающегося не только под воздействием времени, но и от трудов человеческих. И эта прерогатива — не быть равнодушным, должна охватить не несколько человек, а большинство горожан. И вот только тогда можно будет говорить, что у нас существует городское сообщество, сообщество единомышленников. И это сообщество будет формировать запрос на благоустройство города.
А пока этого сообщества нет, с нашим городом будут делать все, что считает нужным администрация. Каждую весну город будет терять десятки, а, возможно, и сотни деревьев. Уже целые кварталы по Ленина, Толстого, Октябрьской, К. Маркса, Урицкого остались без зеленых насаждений. А это исторический, прогулочный центр города! Наверное, мне скажут, что деревья по Толстого — три квартала, Карл!, и всё липы и березы, тополей там не было, деревья спилили, чтобы они не мешали электрическим проводам. Они раньше и не мешали, пока столбы, несущие провода и фонари освещения не переместили от проезжей части дороги ближе к тротуару, поближе к деревьям. Перенос столбов — дело рук человеческих, и вот результат — деревьев нет.
Пока городского сообщества нет, пустыри, остающиеся после сноса исторических зданий, будут закатываться в асфальт. В асфальт будут закатываться дворы, в них также будут устраиваться обширные парковки. Бывшее православное кладбище, первое, между прочим, в уездом городе Чистополь, возле нижнего рынка, также планируют закатать в асфальт и сделать так парковку для туристических автобусов. Несомненно, водители будут счастливы — столько парковок в центре города! Но, как писали в далеком 1931 году блестящие писатели Илья Ильф и Евгений Петров (»наш», кстати): «Пешехода надо любить. Пешеходы составляют большую часть человечества. Мало того — лучшую его часть. Пешеходы создали мир. Это они построили города, возвели многоэтажные здания, провели канализацию и водопровод, замостили улицы и осветили их электрическими лампами».
Помню, что мы принимали концепцию реконструкции улицы Ленина. Сегодня работы по реконструкции в полном разгаре. Специально открыл и посмотрел разработанные рекомендации к проекту «Комплексное развитие участка улицы Ленина от улицы Льва Толстого до улицы Нариманова», спасибо Марии Леонтьевой Марья Леонтьева , (соучредитель Института городских исследований «Тамга», руководитель одноименной независимой проектной и исследовательской команды, занимающейся идентичностью в проектах развития территорий). Да. точно, в проекте через запятую перечисляются и работы по сокращению визуального шума посредством лаконичного благоустройства, проявляющего ценность исторической улицы. Переведу на русский язык. Это означает, что должны быть разработаны требования к дизайну и цветовому решению рекламных вывесок. Сегодня от их пестроты рябит в глазах и хочется поскорее уткнуться взглядом в землю. Еще в предложениях к проекту заложены требования к ремонту фасадной части зданий и рекомендации к приведению фасадов к единой, соответствующей уездному городу колористике. И очень хочется, чтобы реконструкция центральной части не закончилась бы только сменой тротуарной плитки и ремонтом проезжей части, на которую уйдут все выделенные средства. Что толку, если на пешеходную часть постелят дорогую полированную плитку, которую пластиковой щеткой можно повредить — мы по ней ногами ходить будем, а смотреть будем на разнокалиберную, разноцветную рекламу и облупившиеся фасады домов.
До реконструкции, улица Ленина представляла из себя одну большую стоянку для машин. Неужели так будет всегда? Зачем тогда слова о минимизации визуального шума, мешающего наслаждаться видом старинной улицы купеческого города? Стоянка машин на реконструированном участке улицы Ленина вообще должна быть запрещена за исключением специально отведенных мест. В проекте предусмотрены несколько карманов для стоянки ограниченного числа автомашин, для остальных уже существуют перехватывающие парковки на Ленина возле ГДК и на Толстого напротив здания лицея. Нужно только нарисовать на них разметку, и тогда их вместимость увеличиться вдвое, сегодня каждый ставит там машину, как ему вздумается.
Сегодня выявилась еще одна проблема, связанная с безопасностью пешеходов — это злектросамокатчики. Особенно актуальна она на Толстого. Это одна из немногих улиц, на которых недавно уложено новое асфальтовое покрытие тротуаров. И теперь электросамокатчики бесшумно подкрадываются сзади, вылетают где-то сбоку на приличной скорости и стремительно удаляются, вдали, виляя меж шарахающихся от них пешеходов. Кто-нибудь объяснил водителям электросамокатов, что скорость на их средстве передвижения ограничена 10 км/час?. Или я ошибаюсь? Может выпустить их тогда на проезжую часть? И есть ли у нас сотрудники ГИБДД, или спасение пешеходов от травм при столкновении с движущимся средством, дело рук самих пешеходов? Эта проблема нарастает с каждым погожим днем.
Вообще-то, этот крик души вырвался у меня после посещения двора между домами №33 и №35 по Часовой. Накипело. Зайдя во двор, некогда зеленый и тенистый, я увидел, что в огромном просторном дворе осталось ровно три дерева, остальное пространство занимает теперь автостоянка. Мне, конечно, раньше и в голову не приходило считать деревья во дворе, но было их много, точно более двух десятков — двор был один из самых зеленых в городе. И росли там не клены, а яблони, липы и березы. А сегодня, когда липа цветет, она одна двух, если не трех других деревьев стоит, такой аромат распространяет по городу! Понимаю, что есть две точки зрения. Первая: «Зато моя машина теперь стоит под моими окнами!». И вторая: «Чтоб вы провалились со своими машинами! Теперь во дворе всегда будет яркое солнце, пыль, грязные окна на нижних этажах, вонища, выхлопные газы, особенно зимой, когда машины нужно будет прогревать, про шум моторов я уже не говорю.» Обе стороны всегда будут правы. Но в двух домах 140 квартир. Возможно, в квартирах был проведен опрос жителей, и большинство сказало: «Деревья — спилить, сделать нам под окнами автостоянку!» Тогда я публично извинюсь, что опять влез не в свое дело, демократия — дело святое. Но что-то мне подсказывает, что опроса никакого не было, а было волевое решение — закатать в асфальт!
И, помните, я писал про двор на Ленина в исторической части города, двор дома №42, в котором после сноса сарайки обнаружилась металлическая дверь и окно в XIX век? Это единственный двор в Чистополе, в котором сохранились без какой-либо переделки, в своем аутентичном виде ворота и двери в торговые лавки и складские помещения. Причем этот двор был доступен для посещения, чего сегодня не скажешь про большинство дворов города. Это был единственный! двор, в который гостей города не стыдно было бы приводить, если его почистить. В нем, как вы помните, планировалось устроить автостоянку на 10 машин для чиновников, чего-то там считающих в нашем дырявом городском бюджете. Можете не сомневаться, реконструкция двора началась именно с устройства автостоянки. Теперь чиновники будут на своих машинах торжественно проезжать по Ленина (и зачем им делать ее пешеходной?) и привязывать своих стальных коней прямо под окнами своих кабинетов. Между тем, в рекомендациях к Проекту реконструкции улицы Ленина прямо говорится о и реконструкции прилегающих дворов.
Вопрос о преимущественном праве заботы о пешеходах или автомобилистов — далеко не праздный и не простой. Наш город небольшой, я пешком до любого его обитаемого края дохожу из центра за 50 минут. Несомненно, есть категория людей, для которых автомашина просто необходима. Но, если у тебя есть машина, задумайся, где ты его припаркуешь. И почему ты решил, что город обязан обеспечить тебе парковочное место непременно под окнами твоего кабинета, к тому же в ущерб горожанам. И, если посчитать стоимость создания и содержания автопарковок и прикинуть, не сопоставима ли она со стоимостью новых городских удобных и современных автобусов, ведь не секрет, что именно за развитием общественного транспорта будущее городов, иначе город задушат машины, не стану здесь распространяться, как безобразно на них стали ездить. Так, может, пока не поздно, надо задуматься над тем, каким мы хотим видеть наш город через 10 лет? Или такой план развития уже есть? Тогда, может, кто-то поделится этим планом с горожанами:
#нашчистополь #чистопольлитературный #экскурсиипочистополю
В первую очередь, конечно, над заказанной партией и востребованной руководящей и распределяющей пряники элитой, производственной темой. В поэме «За далью — даль», а мы ее изучали в школе, Александр Твардовский так описал схему создания, фабулу советского производственного романа:
Глядишь, роман, и всё в порядке:
Показан метод новой кладки,
Отсталый зам, растущий пред
И в коммунизм идущий дед;
Она и он — передовые,
Мотор, запущенный впервые,
Парторг, буран, прорыв, аврал,
Министр в цехах и общий бал…
«Цемент» Федора Гладкова. Рецензия 1965 года на эту книгу: «Читатель почувствует горячее дыхание первых лет Советской власти, времени, когда молодая советская республика подымала из руин разрушенные заводы и фабрики. Гладков как художник большой социальной зоркости предугадал многие конфликты, противоречия, характерные для эпохи строительства социализма: конфликты между инертностью и новаторством, обыденщиной и романтичностью, устаревшим и передовым. Писатель сумел романтически возвысить своих героев и их чувства до глубокой философии жизни: Россия для них — новая для всего человечества планета, и владеть ею может только коллектив тружеников, окончательно очистившийся от скверны старого мира, живущий по самым гуманистическим нормам коллективистской морали».
«Люди из захолустья» Роман Александра Малышкина. (Это в его дачу переехал Борис Пастернак в 1938 году). «В романе встаёт образ уездной захолустной России, потянувшейся к счастью, к радости, в свободном труде первых пятилеток обретающей новую жизнь. Герои книги — строители металлургического комбината, одного из гигантов социалистической индустрии».
Далее в том же русле: «Гидроцентраль» Мариэтты Шагинян, «Лапти» Петра Замойского, «Бруски» Федора Панферова, «Доменная печь» Николая Ляшко, «Большой конвейер» Якова Ильина — это самые упоминаемые в предвоенные годы книги.
Поэзия. Собственно, в поэзии предвоенного десятилетия доминировали две линии: гражданская, она же агитационная и народная. Общекультурный предвоенный уровень советских людей был невысок, чаще всего 4 класса образования, ближе к войне — семилетка, поэтому для большинства граждан СССР понятной и доступной стала песенная поэзия. (Может, в этом секрет популярности песенной поэзии среди старшего поколения и сегодня?). В 1930-е появилась плеяда поэтов-песенников: Евгений Долматовский, Лев Ошанин, Борис Корнилов, Василий Лебедев-Кумач. Позже, уже в военное время, к ним присоединился Михаил Исаковский. Стоит ли цитировать строки популярных предвоенных песен: « Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!». И Долматовский, и Ошанин, и Исаковский — наши, «чистопольцы». Вот Корнилова в 38-м расстреляли. Пастернака в 30-е издавали. Издавали много, все же первый поэт страны. А у Ахматовой с 1921 по 1940 год не вышло ни одной книги. О Цветаевой, которая включена в список поэтов, проживавших как в нашем Чистополе, так и в Елабуге — и говорить не хочется, хочется плакать. Востребованы были также поэтические произведения, созданные в стиле поэм или баллад: «Баллада о Сталине», поэмы «Щорс», «Олеко Дундич», «Песня о Ворошилове». Это все «наш» Осип Колычев, настоящее имя — Иосиф Яковлевич Сиркес. «Баллада о кассирше» — это тоже его произведение. Благодаря этой балладе Илья Ильф и Евгений Петров прославили на весь читающий мир литературного халтурщика, продающего разным издательствам свою «Гаврилиаду»: «Служил Гаврила почтальоном, Гаврила письма разносил». (Прошу не путать с «Гавриилиадой» Пушкина).
Мне, конечно, возразят: «А где же Эдуард Багрицкий, где Михаил Светлов?» Сам когда-то зачитывался стихами из небольшого томика Эдуарда Багрицкого.
По рыбам, по звездам
Проносит шаланду:
Три грека в Одессу
Везут контрабанду.
На правом борту,
Что над пропастью вырос:
Янаки, Ставраки,
Папа Сатырос.
А ветер как гикнет,
Как мимо просвищет,
Как двинет барашком
Под звонкое днище,
Чтоб гвозди звенели,
Чтоб мачта гудела:
«Доброе дело! Хорошее дело!»
Можно ли ярче написать?, наверное нет.
Или, читая Светлова,
Мы мчались, мечтая
Постичь поскорей
Грамматику боя —
Язык батарей.
Восход поднимался
И падал опять,
И лошадь устала
Степями скакать.
Найти и воспеть романтику в страшной Гражданской войне под силу было лишь подлинным мастерам, таким, как Михаил Светлов и Эдуард Багрицкий. Оба не «наши». К тому же все это было написано еще до воцарения всеобъемлющего метода соцреализма.
1930-е стали временем расцвета советской драматургии. Некоторые пьесы — «Любовь Яровая» Константина Тренёва или «Оптимистическая трагедия» Всеволода Вишневского, «Волк (Бегство Сандунова)» Леонида Леонова с большим успехом ставились по всей стране. Сегодня они не востребованы, хотя, кто знает, может, через пару лет снова вернутся на сцену, чуть подредактировав сюжет и сменив имена главных действующих лиц. Зато в период позднего СССР произведения Михаила Булгакова, Николая Эрдмана (репрессирован), Евгения Шварца, написанные, но запрещённые в ранний период, занимали заметное место в репертуарах российских театров, но ни Булгакова, ни Шварца, ни Эрдмана в Чистополе не было, зато были и Тренев, и Леонов. Попробуйте догадаться, почему сегодня не увидишь в ни театрах, ни на экране телевизора спектакли и фильмы , поставленные и снятые по сказкам Евгения Шварца «Тень» и «Дракон». (В постановке Марка Захарова « Убить дракона»). Лайфхак — зритель, после просмотра, скажет в ужасе: «Это же про нас!»
Великолепна была в 30-е детская литература — Константин Паустовский, Борис Житков, Аркадий Гайдар, Виталий Бианки, Самуил Маршак, Корней Чуковский. Из этого списка к «нашим» приписывают Константина Паустовского, проведшего в Чистополе меньше двух месяцев, еще до начала традиционных литературных «средников», проводимых в Доме учителя, или Корнея Чуковского, приезжавшего буквально на несколько дней, чтобы эвакуировать семью свой дочери в Ташкент. Но не надо забывать и о таком значительном, чуть ли не главном направлении в детской поэзии, как ознакомление подрастающего поколения с жизнью и великими деяниями вождей молодой советской республики, воспитания детей в уважении, практически в поклонении созданного ими счастливого советского общества. Это «наши» Зинаида Александрова и Вера Смирнова. Или Сергей Михалков. «В воскресный день с сестрой моей мы вышли со двора…», — учили в школе наизусть, и сейчас оттарабаню: «Он с детских лет мечтал о том, чтоб на родной земле жил человек своим трудом и не был в кабале…» Это вечное, как вечен сам Сергей Владимирович Михалков.
Продолжали традицию русского исторического романа Алексей Чаплыгин («Степан Разин»), Василий Ян ( «Чингиз-хан», «Батый»), Алексей Новиков-Прибой («Цусима»), Юрий Тынянов (»Кюхля». «Смерть Вазир-Мухтара», «Пушкин»). Хотя и здесь, казалось бы в совершенно нейтральной теме, могли появиться подводные камни. Так, с большим трудом пробивался к изданию «Чингиз-хан» Василия Янчевецкого. Рецензент, Исаак Израилевич Минц, заведующий кафедрой истории народов СССР в Высшей партшколе при ЦК ВКП(б), в своем отзыве писал: «…о татарах Василий Григорьевич написал так, как будто бы это было «передовое общество своего времени». (Какие могут быть сомнения в том, какое государство было самым передовым и прогрессивным в XIII веке, несмотря на раздиравшие его удельные распри, убийства братьев и дядьев в борьбе за наделы и бесконечные войны?). Но оба эпохальных романа все же увидели своего читателя. И, кстати, сама жизнь Василия Григорьевича Янчевецкого — это один большой и увлекательнейший роман! Но эвакуацию Василий Ян провел в Ташкенте, задержавшись на месяц в Куйбышеве (Самаре).
Если кто-то очень внимательно прочтет список писателей, эвакуированных в Чистополь в период Великой Отечественной, тот обнаружит немалое количество литературных критиков. Конечно, главным органом, надзирающим за тематикой и стилем произведений художественной братии, являлся Главлит, этакий «Бутурлинский комитет» Страны Советов. 6 июня 1922 года Совнаркомом было утверждено «Положение о главном управлении по делам литературы и издательств (Главлит)». Чекистский статус учреждения закреплялся шестым пунктом постановления: «один из двух заместителей заведующего Главлита назначается по согласованию с ГПУ». Широкий фронт культурной революции, начавшейся в стране, включал в свою программу разрушение старых институтов России — церкви, семьи и брака, школы, обрядов, песенной культуры, старой топонимики. Это все с успехом удалось осуществить. Но одновременно должна быть создана новая культура общественной жизни, и в ее создании главная роль отводилась литературе. Отсюда и такое повышенное внимание к деятельности мастеров пера, к содержанию их произведений. Кто был помощником Главлита в нелегком деле борьбы с крамолой? Конечно, литературные критики. Вдруг писатель является невежей в области литературной теории и марксистской методологии, ну, не способен он придать произведению верные эстетические и политические оттенки, а потому, может неправильно ориентировать читателя. Вот тут на помощь и придут литературные критики. Они дадут марксистскую оценку произведению, подскажут верное направление. «Верной дорогой идете, товарищи!». Или — наоборот, неверной. На культурном фронте государству нужны были не только комиссары, роль которых в 20-е годы исполнили «пролеткультовцы», но и грамотные управленцы культурой и организаторы литературного процесса. Соцреалистическая критика послесъездовского периода включает в себя две противоположные установки: идеализацию действительности, создание ее идеальной модели ( метод социалистического реализма подходит для этого как нельзя лучше) и конфронтационность, восприятие литературы как орудия классовой борьбы — поиски и разоблачения врагов. Отсюда и такая нелюбовь (это мягко говоря) писателей к критикам, сошлюсь опять на бессмертный роман Булгакова. «Критик не может… прятаться за спины персонажей своих произведений. Критик идет с открытым забралом, и его намерения становятся сразу очевидными. А эти намерения определяются прежде всего политическими требованиями момента.» Корнелий Зелинский
Но были же, были писатели и поэты не желавшие участвовать в славословии вождей, увиливающие от всеобъемлющего метода соцреализма? Что же, совсем некуда было приткнуться писателю с неуемным талантом и нежеланием строчить дифирамбы? Да, такая ниша существовала, и эта ниша называлась переводческая литература. Но, даже и в ней существовала развилка. Не следует думать, что поклонение своим вождям — это прерогатива лишь российских поэтов, поэтам советских республик не в меньшей степени было свойственно писать стихи о своих «выдающихся и великих», а уж в азиатских республиках славословие было еще и украшено богатейшим словесным орнаментом. Да и требования отображения преображения (простите за каламбур) быта жителей освобожденных республик, никто не отменял. Тогда могли появиться, к примеру, и такие стихи.
Цветет урюк под грохот дней
Горит зарей кишлак.
А вдоль арыков и полей
Идет гулять ишак.
А может получиться, как у Николая Заболоцкого.
Это древнее сказанье я, чье имя Руставели,
Нанизал, как цепь жемчужин, чтоб его стихами пели.
Переводами подрабатывали и, в какой-то степени, спасались от необходимости следовать господствующему в литературе методу соцреализма, и Борис Пастернак (»Грузинские лирики», 1935 год), позднее — переводы трагедий Шекспира, и Марина Цветаева. Цветаева, благодаря переводам, просто выживала в советской России . Она переводила из чешской, болгарской, грузинской, польской, еврейской поэзии, переводила по подстрочникам, но, тем не менее , делала эту работу крайне тщательно, «я часами ищу одно слово». Главный переводческий труд советского периода Марины Цветаевой — стихотворение Шарля Бодлера «Путешествие» — в цветаевском переводе «Плавание». Последняя поэтическая работа Цветаевой — переводы испанского поэта Федерико Гарсии Лорки остались незаконченными.
Маршак переводил Бернса, Чуковский — Киплинга.
Вообще переводческая школа в довоенном СССР была очень сильна. В 30-е годы в переводческую группу Георгия Аркадьевича Шенгели, редактора отдела творчества народов СССР и секции «западных классиков» Гослитиздата, входили Арсений Тарковский («наш»), Семен Липкин («наш»), Мария Петровых («наша»), Марк Тарловский, Аркадий Штейнберг, Вера Звягинцева. Все они называли себя учениками Шенгели. И если внимательно посмотреть на список эвакуированных в Чистополь писателей, то у многих из них после слова «писатель», через запятую обнаружится еще и «переводчик». И, зачастую, их переводы окажутся гораздо сильнее в литературном смысле, чем проза и поэзия «знаменитых и выдающихся», сидящих в первом ряду. Чаще всего мы ведь не обращаем внимание на фамилию переводчика зарубежной литературы. А зря. Кто вспомнит имя Исаака Михайловича Шрайбера, переводчика знаковых романов Эриха Марии Ремарка «Триумфальной арка» и «Три товарища». «Человек из Лондона» Жоржа Сименона» — это тоже перевод Шрайбера. Читать эти книги — ни с чем несравнимое эстетическое наслаждение.
Иногда, даже от профессионалов, считающих себя знатоками истории эвакуации писателей и поэтов, можно услышать фразу: «Да кто там был, в Елабуге, из известных!» Меж тем, в соседнюю Елабугу был эвакуирован Михаил Леонидович Лозинский, русский и советский поэт-акмеист, переводчик, один из создателей советской школы поэтического перевода. Лозинский дружил с Осипом Мандельштамом, Анной Ахматовой и был ближайшим другом Николая Гумилёва. В далеком 1912 году Лозинский организовал издательство «Гиперборей», где печатались акмеисты, и входил в созданный Гумилёвым «Цех поэтов». «В трудном и благородном искусстве перевода Лозинский был для ХХ века тем же, чем был Жуковский для века ХIХ», — Анна Ахматова. «В Елабуге Михаил Лозинский переводил «Божественную комедию» Данте. Переводил в маленькой проходной комнатушке, тут же дочь стирала пеленки — родилась внучка Наташа. Не хватало не только хлеба, но и бумаги. Форма поэмы Данте чрезвычайно трудна, а записывать черновые варианты перевода было не на чем. Для белового текста раздобывалось что придется, чаще всего обложки исписанных тетрадей и старых брошюр. Внутренние стороны обложек были чистыми, на них можно было писать», — из воспоминаний о Лозинском. А известнейшие строки «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте»», — принадлежат переводу Лозинского, а не Пастернака. В архиве Лозинского хранится письмо от Пастернака. Борис Леонидович пишет, что не стал бы переводить «Гамлета», если бы знал, что за перевод уже взялся Лозинский. Образованнейший, интеллигентнейший, талантливейший человек. Список авторов, им переведенных, займет несколько страниц, назову только некоторых классиков: Уильям Шекспир, Ричард Шеридан, Пьер Корнель, Жан Батист Мольер, Лопе де Вега, Мигель Сервантес, Карло Гоцци, Проспер Мериме, Ромен Роллан. А еще Михаил Лозинский — первый, кто получил Сталинскую премию I степени за перевод. (Перевод «Божественной комедии» Данте). Случилось это в 1946 году. Для того, чтобы включить Лозинского в число лауреатов, специально было изменено положение о премиях, и рукою самого главного читателя страны было начертано: «Лозинский — 1». Да, в Елабугу были эвакуированы лишь шесть писателей, но среди них был Лозинский!
Из писателей, через запятую, переводчиков, пребывавших в годы войны в Чистополе, я открыл для себя Льва Шифферса, Михаила Шамбадала. Наверняка, это не все, но слишком мало времени мы уделяем чтению, и слишком мало нам рассказывали о настоящих мастерах пера. Это о них, о Льве Шифферсе и Михаиле Шамбадале, о тех, кого незаслуженно причисляют к писателям «второго ряда», я говорил, что, по моему мнению, сидеть они должны впереди многих и многих «заслуженных и знаменитых»: